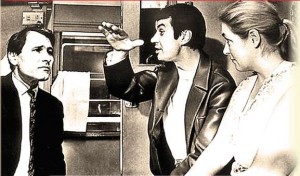
Художественный фильм Василия Шукшина, снятый им в 1972 году. Он любил этот фильм и считал лучшей своей работой.
Сюжет кинокартины
Из глухой деревни на красивой алтайской реке уезжают муж с женой (Шукшин, Федосеева-Шукшина) на курорт по одной путевке. Деревня, быт, люди, песни, выпивка, сборы сняты практически в документальной манере, а само путешествие в Москву насыщено анекдотически смешными, но в то же время вызывающими симпатию, сочувствие и даже легкую грусть ситуациями, увиденными человеком из деревни, ставшим писателем, актером и режиссером. В поезде состоялось знакомство и с обаятельнейшим вором (Георгий Бурков), и с ученым-лингвистом (Всеволод Санаев), пригласившим их остановиться у него в Москве. В конце концов, попадают супруги и к морю.
Как зародилась идея
В ноябре 1969 года Василий Шукшин писал матери на Алтай, в деревню Сростки: «Ну, а скоро, очевидно, начну свой фильм. Или о Степане Разине, или современный - еще не знаю». Картину о Степане Разине Шукшин так и не снял: не разрешили власти. «Современным» же фильмом, о котором шла речь в письме, стали «Печки-лавочки», вышедшие на экран в 1972 году.
Василий Шукшин был и автором сценария, и режиссером «Печек-лавочек». Снимал картину оператор Анатолий Заболоцкий, с которым Шукшин работал свободно, доверительно, что и помогло ему прийти к ответственному решению - самому исполнить главную роль в фильме.
Дом героя фильма Ивана Расторгуева стоит на правобережье Катуни, и, как выясняется по ходу разворачивающейся на экране истории, далеко от своей деревни Иван прежде никогда не выбирался. Разве что в райцентр. Он даже в армии не служил и в этой связи из дома не отлучался: районные власти сумели сделать так, что лучшего тракториста во всей округе, орденоносца, позарез нужного колхозу, не призвали на службу.
Шукшину был нужен именно такой герой, прежде не видевший страны, впервые с ней знакомящийся. Еще важнее автору фильма то обстоятельство, что Ивана особо никогда никуда и не тянуло, что он душой прикипел к своей малой родине. Семью Расторгуевых, как и семью Бай каловых, показанную в следующей картине Шукшина - «Калине красной», - автор высоко ценит за оседлость их жизни, которая, по Шукшину, служит и условием нерушимости их нравственного мира.
Деревенские мотивы
Шукшин был не только кинематографистом, но и писателем, одним из создателей «деревенской прозы», которых сильно тревожила очередная волна миграции в стране, выбросившая тысячи крестьянских сыновей и дочерей в города и рабочие поселки, где они, не обретая новых норм бытия и культуры, теряли старые, превращаясь в духовных беспризорников перекати-поле. Вот почему с таким нажимом высказана в «Печках-лавочках», как, впрочем, и в других фильмах Шукшина, мысль о ценности укорененной и стабильной жизни крестьянина, привязанного к земле.
Уже самое начало фильма «Печки-лавочки» знакомит зрителя с Иваном, первая же сцена запечатлевает единство труда на природе и гармонии в семье Расторгуевых как сущности их бытия. На широком замахе, умело косит Иван налитую первозданной силой траву.
За спиной его, поодаль - манящие глаз предгорья. «Хорошо! Господи, как хорошо! Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот - хорошо», - говорится в рассказе Шукшина. Появляется жена Ивана - Нюра Расторгуева. Снятый с верхней точки общий план: длинные, ровные выкошенные полосы на делянке Ивана, с краю тихо сидит на траве женщина в платке, вытянув перед собою ноги, как жницы на картинах Венецианова, ждет окончания работы мужа. Рядом с ней узелок, она принесла Ивану еду.
Съемки проходили с открытой душой
Изначальной «документальности» черно-белого изображения придан масштаб широкого экрана - это соответствует достоверности происходящего и одновременно широте и размаху людских натур, участвующих во внешне непритязательных событиях, не говоря уже о широте и размахе природных явлений, начиная с реки Катуни.
Вот Иван, выйдя из дома и заметив знакомых плотогонов на реке, кричит и машет им с верхотурья: «Причаливай! Гульнем!» Те, уже относимые быстрой рекой, успевают весело ответить ему издалека, что рады бы, конечно, гульнуть, да вот спешат. Камера долго вглядывается и в крохотные уже фигурки уплывших плотогонов, и в Ивана, стоящего на круче, явно наслаждающегося привольем и тем еще, что так приязненно, хорошо отвечали ему плотогоны: Шукшин высоко ценил всеобщее доброе знакомство сельских жителей.
Для смысла истории, которая развернется на экране, подобный зачин особо важен. Но зритель еще успеет налюбоваться самим зачином - большим эпизодом многолюдного застолья в доме Ивана. Впечатление такое, что камера подсмотрела самостоятельно происходящее веселье, настолько искренне и естественно держатся люди перед кинокамерой. На столе - непритязательная деревенская снедь и графины, гулянка словно бы идет без режиссерских подсказок. Кроме актеров участвуют на равных правах непрофессионалы, приглашенные Шукшиным односельчане из Сростков.
Обрывки разговоров, возбужденные лица, всем хорошо, все шумят, перебивают друг друга, пляшут и поют.
Шукшин сам знал много песен, в фильмах его нет «киноконцертных» вставок, поют не для публики, а исключительно для себя, для души, и только любимые его персонажи. Вот и гости Ивана заводят про чернобровую цыганку, переходят на протяжную и грустную «Рябинушку», а потом - на свои, бесконечные сросткинские напевки.
«Кому на Руси жить хорошо?»
Шукшин еще в заявке на будущий фильм объяснял: «История этой поездки и есть сюжет фильма... Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее - кормилец, работник. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрестанно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают такую снисходительность все кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, кассиры, продавцы... И если такой вот Иван не имеет возможности устроиться в столичной гостинице и, положим, с какой лихостью, ласковостью и с каким-то шиком устраиваются там всякого рода деятели в кавычках, то недоумение Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало сказать недоумением, не позор ли это наш?»
Фильм, по существу, ставит традиционный вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Однако цензура не пропустила бы на экран картину, столкнись Иван хоть раз с властями предержащими, их верхами. Шукшин предусмотрительно включает Ивана-кормильца во взаимоотношения только с теми, кто пребывает в самом низу служебной лестницы. Но эти люди, начиная с проводника поезда дальнего следования, несут в собственной психологии все те качества, какие свойственны властной лестнице в целом: холуйство перед вышестоящими и презрение к тем, кто располагается ступенью ниже.
Фильм отчетливо выявляет, говоря словами Шукшина, «постыдную, неправомочную, лакейскую, по существу, роль всех этих хамоватых «учителей», от которых трудно Ивану. И всем нам».
Подготовила Яна ЗАГОРСКАЯ



















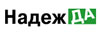







Комментарии:
нет комментариев