
Ни славы, ни почета…
Еще 29 июня 1941 г. вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая призывала население при вынужденном отходе Красной Армии «угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего». Однако так получалось не всегда. А в случае захвата Бердянска и Мариуполя имела место преступная халатность! И сошло это с рук местной администрации и партийному руководству (если потом не припомнили) лишь только из-за того, что забот и проблем хватало в октябре 1941 года и без этого...
Из воспоминаний генерала СС К. Мейера, «Немецкие гренадеры. (1939-1945 г.)»: «…7 октября мы выступаем... Наша задача: овладеть портовым городом Бердянском.
…Повсюду по обочинам дорог русские орудия, танки и автотранспортные средства — следы отступления русских. В Ной-Штутгарте наталкиваемся на незначительные по численности силы противника, поспешно отходящие к востоку. На главной улице Ной-Штутгарта обнаруживаем множество расстрелянных представителей мирного населения. Приглядевшись, замечаем, что кое-кто из них еще жив. Они молят о пощаде. С какой стати русские расстреливали мирное население? Ответ на этот вопрос и по сей день остается открытым…».
К сожалению, точно установить, кем именно были «множество расстрелянных представителей мирного населения» не удалось. Маршрут броска разведбатальона «Лейбштандарта СС» восстановить достаточно сложно: Елизаветовка — Федоровка — Терпение, затем мимо колхоза Аккерман — Широкое (Широкий лан?) — Астраханка — Инриевка (может быть, Юрьевка?) — колхоз Романовка (больше по месторасположению похоже на Коларовку) — Ной-Штутгарт (Подгорное?) — колхоз Андреевка (скорее, Андровка) — Новоспасская (Осипенко) — Бердянск.
Согласно последнему на этот период боевому приказу 9-й армии Южного фронта («Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00132 на отвод войск армии на рубеж Поповка, Андреевка, Софиевка, Дмитриевка» от 5 октября 1941 г.): «…13. Штарм 9 — Федоровка, с 8.00 6.10.41 г. — Коларовка, в дальнейшем — М. Янисаль (30 км с.-з. Мариуполь)».
По времени все совпадает почти идеально. Ориентировочно Курт Мейер был в том же месте в тот же день в 14.45, лихим наскоком взял в плен несколько штабных офицеров, секретаршу, добыл штабные карты и кожаную генеральскую куртку. В целом же впечатление от «мейеровского» описания событий весьма удручающее:
«Моему плану продолжить марш на Мариуполь не суждено осуществиться — поступает радиограмма с приказом все же двигаться на Бердянск. И снова 1-я рота занимает место во главе колонны и, преодолевая подъемы и спуски, приближается к Азовскому морю. Артиллерийские батареи русских, попадающиеся нам по пути, сдаются без единого выстрела…
…Самолет-разведчик…сбрасывает сигнальный дымовой патрон с капсулой, в которой я нахожу донесение: «Силы противника в городе немногочисленны. В 10 километрах западнее Бердянска замечена неприятельская колонна. Восточнее Бердянска множество колонн противника, отступающих к Мариуполю». Донесение попало в мои руки, когда я находился в 8 километрах севернее Бердянска…
Водитель понимает меня с полуслова, и вот мы уже мчимся на нашем танке, словно на гоночной машине, обгоняя роту на марше. Вскоре вдали видим поблескивающую на солнце синеву моря. Герду Бремеру и головному отряду дан сигнал: за мной!
С севера населенный пункт не виден. Он расположен ниже обрывистого берега, непосредственно у моря. Неожиданно мы видим аэродром. Петер сбавляет ход. Поднявшийся в воздух самолет исчезает в восточном направлении.
Мы осторожно пробираемся к первым домишкам. Впереди нас следует отряд стрелков-мотоциклистов. Улица словно вымерла — ни души. Выбоины и грубый булыжник мостовой вынуждают нас сбросить скорость. Даю водителю знак обгонять всех — надо как можно скорее проехать город. Теперь мы впереди всех, а потом отрываемся на добрую сотню метров. Мы уже опять следуем в западном направлении, буквально наступая на пятки русскому арьергарду и углубляясь в этот «вымерший» город. Нас словно магнитом тянет к перекресткам улиц. Сначала из-за угла показывается нос нашей машины и как бы принюхивается, после чего машина делает рывок и замирает у следующего угла. Так мы пробираемся от улицы к улице, задавая темп следования для стрелков-мотоциклистов.
Я притаился за башней, судорожно сжимая в руках карабин, а Петер как раз собирается обследовать следующий перекресток. Ни одного постороннего звука, все окна плотно закрыты, ни единого намека на присутствие человека. Перед тем как машина исчезает за углом, оглядываюсь убедиться, что и стрелки-мотоциклисты едут за нами. Внезапно наш танк резко останавливается, а я оказываюсь на мостовой. Гремят выстрелы, лошади встают на дыбы. Откуда-то возникают казаки и, стреляя на ходу, исчезают в близлежащих домах. Офицер выхватывает тяжелый наган и стреляет. И тут же слышу за спиной голос Петера:
— Штурмбаннфюрер, я уже всадил ему пулю!
В следующую секунду убеждаюсь, что Петер прав. Наган падает на мостовую. Кони без всадников скачут на запад, а раненые казаки, прижавшись к стенам домов, тоже пытаются сбежать.
Наш командирский танк, не оснащенный огневыми средствами, напоролся на русский эскадрон... Бремер без оглядки несется на окраину города и, прибыв туда, ждет моих распоряжений. Колонна, ничего не подозревая, приближается. Уже можно различить каждый грузовик и солдат. Вероятно, это остатки некогда усиленного пехотного полка, действовавшего южнее Мелитополя, а теперь пытающегося соединиться с основными силами.
Батальон тем временем выстроился по обеим сторонам улицы и ждет моего приказа. Теперь время у меня есть. Жду, пока колонна не исчезнет в ложбине и не начнет взбираться по откосу. Проходят минуты. Бойцы замерли на технике и жадно докуривают сигареты.
До головного отряда неприятеля пока остается 300 метров, он по-прежнему как ни в чем не бывало марширует дальше. Я даже испытываю к русским нечто похожее на сочувствие. Они прикрывали отступление своих товарищей, а теперь им даже некому помочь. Не успевают потрепанные в боях русские сообразить, в чем дело, как роты стрелков-мотоциклистов в сопровождении бронемашин промчались вдоль колонны и без каких-либо осложнений взяли ее в кольцо. Свыше 2000 русских с оружием и техникой очутились в плену. Захвачено вооружений на две батареи. Наши потери 7 октября равнялись одному бойцу…
После взятия в плен русской колонны устанавливаю связь с головным отрядом Боддина... Его батальон овладевает Бердянском, мы же возвращаемся в станицу Новоспасскую и готовимся продолжить преследование отступающего к Мариуполю противника…».
Из мемуаров адмирала Горшкова С.Г. «На южном приморском фланге»: «Не всегда своевременно поступали приказания и от штаба флота. Так, приказ о перебазировании всех плавсредств из пунктов северного побережья Азовского моря в Темрюк, Приморско-Ахтарскую и Керчь был отдан лишь 7 октября, когда противник уже вышел к Осипенко и устремился к Мариуполю, т. е. практически контролировал 2/3 побережья. В создавшейся обстановке выполнить полностью поставленную задачу было крайне трудно. Под натиском превосходящих сил противника части 9-й армии 8 октября оставили Мариуполь. Корабли флотилии выходили из порта в свою новую главную базу Приморско-Ахтарскую и в Ейск уже под огнем вражеской артиллерии…».
Оставим на совести адмирала высказывания по поводу «превосходящих сил противника». Тем более, что в данном случае он описывает события, в которых сам не принимал участия, поскольку принял флотилию под свое командование 13 октября 1941 года.
Для справки: Азовская военная флотилия сформирована в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 20 июля 1941 года. 15 августа ее корабли перешли в Мариуполь, где развертывалась главная база, и в маневренные маневренные базы (ныне Бердянск), Ростов-на-Дону, Приморско-Ахтарскую, Ейск. Командующим флотилии с 22 июля по 13 октября был капитан 1-го ранга А. П. Александров
Самый бескомпромиссный комментарий по поводу взятия Мариуполя присутствует в воспоминаниях генерала СС К. Мейера, «Немецкие гренадеры. (1939-1945 г.)»: «Город пал в результате отважной атаки горстки немецких гренадеров…».
Защищать Мариуполь должны были 395-я стрелковая дивизия 9-й армии Южного фронта и полк морской пехоты, специально создаваемый по решению командующего Черноморским флотом, но командование 9-й армии перебросило 395-ю стрелковую дивизию на другой рубеж, а полк морской пехоты прибыть в город не успел. Город защищал лишь истребительный батальон, состоящий из 150 бойцов во главе с командиром батальона Скорик и зенитная артиллерия дивизиона тральщиков Азовской военной флотилии, развернутого у завода «Азовсталь».
В этот день, в это время, когда на улицах Мариуполя показались мотоциклисты, бронетранспортёры и танки Клейста, еще продолжалось городское совещание партийного и хозяйственного актива, на котором решались вопросы эвакуации предприятий.
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 002906 КОМАНДУЮЩЕМУ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПЛАВСРЕДСТВ В ОСТАВЛЕННЫХ ПОРТАХ (от 12 октября 1941 г.): «При оставлении портов Мариуполь и Осипенко осталось значительное количество плавучих средств.
Необходимо принять меры [по] немедленному уничтожению этих средств, [а] также портового оборудования посредством налетов авиации и обстрелом боевых кораблей.
[О] принятых мерах сообщите. Б. ШАПОШНИКОВ…». (ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 538. Подлинник).
Жертвы среди мирных жителей
Однако, вернемся к воспоминаниям К. Мейера. При описании событий осени 1941 года у него нет оснований говорить неправду. Разве что почти «общефронтовое» хвастовство — вражеские потери преувеличить, свои — приуменьшить, или скромненько умолчать. По поводу же расстрелянных мирных жителей Ней-Штутгарта у меня есть несколько версий.
1. Это группа беженцев, случайно попавших под обстрел.
2. Это одна из групп депортированных немцев из окрестных сел, которых пытались «эвакуировать». В той нервной обстановке охрана НКВД могла открыть огонь на уничтожение конвоируемых, даже не имея на это особого распоряжения. Все зависело (как бы это сказать помягче…) от личностных качеств конвоиров.
3. Это одна из групп эвакуируемых НКВД заключенных из тюрем Мелитополя, Запорожья или Днепропетровска. В этом случае существовало две категории. Первая, политические или особо тяжкие, зачастую расстреливались охраной тюрем прямо на месте. Вторых, осужденных за незначительные бытовые или уголовные преступления, старались все-таки эвакуировать, а если не успевали эвакуировать, просто бросали на произвол судьбы. Перестрелять могли только при попытке побега, но это мало вероятно.
Итак, еще 4 июля 1941 года зам. наркома Чернышов и начальник Тюремного управления НКВД М. И. Никольский представили наркому Берии свои предложения по эвакуации тюрем. Вывозу в тыл подлежали только подследственные заключенные. Женщины с детьми, беременные, несовершеннолетние заключенные (за исключением диверсантов, шпионов, бандитов и т. п. опасных преступников) подлежали освобождению. Освобождались и осужденные по указам от 26 июня, 10 августа, 28 декабря 1940-го и от 9 апреля 1941-го, а также осужденные за маловажные, бытовые и служебные преступления, кто не считался социально-опасным, с использованием их на работах оборонного характера по указанию военного командования с досрочным освобождением в момент эвакуации охраны тюрьмы.
Ко всем остальным заключенным (в том числе дезертирам) предлагалось применить ВМН (в ходе эвакуации к январю 1942-го было расстреляно 9 817 заключенных, из них на Украине — 8 789. Только из тюрем Львовской области «убыло по 1-й категории» 2 464 человека, из тюрем Дрогобычской области — 1 101, Станиславской области — 1 000 человек).
7 июля Чернышев и Наседкин письмом на имя наркома сообщили: «в связи с эвакуацией заключенных из лагерей, колоний и спецточек ГУАСа прифронтовой полосы и невозможностью в ряде пунктов получения вагонов для перевозок, создались серьезные затруднения с передвижением заключенных. Так, на Украине двигаются пешком заключенные в числе 40.000 человек, из Западной Белоруссии одиночным и организованным порядком также двигаются пешком до 20.000 человек. Заключенные заполняют шоссейные дороги, затрудняя передвижение воинских частей и эвакуируемых жителей», и повторили свои предложения «по необходимости освобождать от дальнейшего отбытия наказания» тех, кто не относился к «контрреволюционерам, бандитам, рецидивистам и другим особоопасным преступникам», — всего около 100 тысяч. Всех освобождаемых из-под стражи заключенных при этом предлагалось «обязать явкой в соответствующие военкоматы для призыва в армию». Почти все эти предложения были оформлены указом ПВС от 12 июля «Об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений» (дополненным впоследствии одноименным указом от 24 ноября).
Согласно официальных данных по тюрьмам Украины с указанием количества освобожденных и эвакуированных (этапированных), маршрутов транспортировки, пунктов конечного прибытия, количества жертв среди эвакуированных узников, не ранее 5 августа 1941 г.: «… из тюрьмы в г. Днепропетровск эвакуировано — 2 501, в том числе в г. Новочеркасск — 1 200 заключенных и в г. Фрунзе — 1 301. Кроме этого, из тюрьмы г. Днепропетровска этапировано — 1 500 заключенных на ст. Защита Томской ж/д, из коих 1 028 погружены в вагоны, остальные освобождены и умерли.
Из тюрем Запорожской области освобождено — 812 з/к, отправлено: 14/VІІ — в г. Архангельск — 1 336 и 21/VІІ в г. Свердловск — 1 027. Кроме того, из тюрем Запорожья и Мелитополя этапировано 700 заключенных в г. Уфу, из которых 200 — Мелитопольских погружены в вагоны, 500 — Запорожских направлены пешком в Сталино».
Из Истории пенитециарной системы Запорожской области: „За матеріалами архіву управління СБУ в Запорізькій області цілком певно можна встановити, що наприкінці 1930-х років в регіоні налічувалося 7 виправно-трудових установ: промислова колонія (в районі сучасного м. Мелітополь) — 1; сільськогосподарські колонії (Червоноармійська та Мелітопольська) — 2; будівельні (контрагентські) колонії — 4.
Контингент останньої категорії установ активно залучався до робіт, пов’язаних зі становленням запорізького промислового вузлу. За оцінками фахівців, в СРСР тоді загалом біля 40 відсотків усіх будівельних робіт виконувалося засудженими…
В Запоріжжі, обласному центрі із січня 1939 року, на будівництві об’єктів Заводу імені Баранова (тепер «Мотор-Січ») було задіяно спецконтингент ВТК № 1. На об’єктах підприємства «Запоріжбуд» використовувалися засуджені ВТК № 2, а на об’єктах «Запоріжсталі» — ВТК № 3. Причому, колонії № 1 та № 3 так і називалися в офіційних документах, відповідно, «Буд ВТК при Заводі ім. Баранова» та «Буд ВТК при Запоріжсталі». Контрагентські об’єкти ВТК № 4 не встановлено.
…У І півріччі 1940 року колектив Запорізької тюрми НКВС № 1 виборов у соціалістичному змаганні імені Третьої Сталінської п’ятирічки перше місце серед тюрем НКВС УРСР,.. у тому ж році колектив Запорізької тюрми обійняв у військово-спортивних змаганнях серед тюрем НКВС СРСР почесне третє місце, а серед тюрем НКВС УРСР — перше… Саме у цей час в Запорізькій тюрмі НКВС № 1 серед інших репресованих утримувались бердянские священники — протоієрей Михайло Богословський, протоієрей Віктор Кіранов та ієрей Олександр Ільєнков, яких у грудні 2000 року Архієрейським Собором Руської Православної Церкви було віднесено до лику сповідників святих Запорізької Єпархії. У серпні ж 2001 року Священним Синодом Української Православної Церкви до лику святихновомучеників Запорізької Єпархії було віднесено ієрея Олексія Усенка, що на сьомому десятку років утримувався в Мелітопольській тюрмі НКВС №2...».
Итак, под нашу версию попадают 700 заключенных из тюрем Запорожья и Мелитополя, этапированных в г. Уфу, «…из которых 200 — Мелитопольских погружены в вагоны, 500 — Запорожских направлены пешком в Сталино». При этом следует учесть, что в это количество входят женщины и подростки с 12 лет, которые по условиям того времени отбывали наказание в одних колониях с мужчинами. По одежде их можно вполне принять за местных жителей. Остается вопрос — добрались ли они до Сталино, а затем до Уфы? Да и фраза «погружены в вагоны» вовсе не означает, что они отправлены и прибыли к месту назначения. При эвакуации пешком из Мелитополя вполне могли двигаться этой дорогой, и при непредвиденной ситуации — могли быть расстреляны конвоем.
Однако спонтанный расстрел не слишком хорошая версия. Служащие конвойных войск, какую бы функцию они не выполняли, в вопросах дисциплины и боевой подготовки в первые месяцы войны показали себя, в основном, с лучшей стороны. Вспомните Брестскую крепость или оборону Киева. Поэтому для того, чтобы охрана открыла стрельбу по этапируемым заключенным, требовались достаточно веские основания. Попытка побега, естественно, не обсуждается. Какие еще причины? Разве что, некий «спецконтингент», который, по ряду причин, требуется эвакуировать, но и в руки противника попасть он не должен.
Например, польские военнопленные. По словам руководителя польской программы историко-просветительского общества «Мемориал» Александра Гурьянова, на Украине в 1939-1940 гг. существовали лагеря для польских военнопленных нижних чинов. Основным был Ровенский лагерь. Те, кто содержались в нем, занимались строительством шоссе Новоград-Волынский — Львов, то есть, автотрассы между Киевом и Львовом. Но были лагеря и в Криворожско-Запорожском бассейне — Криворожский, Елено-Каракупский и Запорожский, где рядовые военнопленные работали на металлургических предприятиях и в шахтах».
В январе 1940 года в Запорожском и Криворожском лагерях для военнопленных польских нижних чинов были прекращены работы по отгрузке местной железной руды. Поляки отказались грузить руду, когда узнали, что она предназначена для отправки в Германию. Выполнение плана Наркоматом черной металлургии оказалось под угрозой. Уменьшение продовольственной пайки, аресты зачинщиков и другие наказания не остановили забастовку. В итоге польских солдат — около 8 тысяч человек — отправили в северные лагеря под Котлас.
Только в августе 1941 года, после установления дипломатических и союзнических отношений между Кремлем и правительством Сикорского, польских солдат реабилитировали. Почти все они вошли в состав польской армии генерала Андерса, сформированной на советской территории. Исходя из имеющихся данных, польские солдаты в октябре 1941 года в Бердянске оказаться не могли, поскольку были переведены в северные лагеря ранее, в конце 1940 — начале 1941 г.
Константин ЗАВЬЯЛОВ



















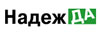







Комментарии:
нет комментариев