
Итальянский писатель и историк Игнацио Силоне считал, что для познания реальной истории необходима «правда подробностей», так как если «главная» правда и выяснена, без понимания подробностей тяжело постичь всю картину событий.
Для начала немного об отношении большинства населения Бердянска к событиям что тех, что этих времен. Из воспоминаний Г.М. Можаровского «Пока бьется сердце»: «…Мой родной Бердянск ничем не отличался от других провинциальных городов и городишек, рассыпанных без числа на необъятной русской земле. Жизнь в нем шла тихая, размеренная, лишь изредка нарушаемая чрезвычайными происшествиями местного значения, и люди в большинстве своем были самыми обычными провинциалами, которых интересовали главным образом их личные дела и личное благополучие. Слухи о событиях, происходивших в мире, часто доходили до Бердянска в довольно искаженном виде и воспринимались обывателями с позиций «наша хата с краю»...
Дорога ценою в жизнь
Тем не менее, тяготы и лишения 1941-го года пришлось в полной мере испытать простым жителям Бердянска (мирному или гражданскому населению — по военной терминологии). В 1940 году население Бердянска составляло по официальным данным около 55 тыс. человек. Считается, что «…Гитлеровцы вывезли на каторжные работы в Германию 11,5 тысяч жителей города. Было замучено и расстреляно свыше 6 тысяч горожан…». Некоторые жители оказались в эвакуации. Кто добровольно, а кто и принудительно. Какая-то часть мужского населения была призвана в армию или, как это не странно сегодня звучит, ушли добровольцами в 1941-м году, какая-то — с 43-го по 45-й. Кто-то погиб, кто-то вернулся, а кто-то нет. Можно ли назвать точную цифру людских потерь города? Вряд ли.
Первым условием эвакуации была возможность воспользоваться транспортным средством. Наиболее эффективным транспортом, учитывая расстояния, о которых идет речь, был поезд. Однако для того, чтобы попасть на поезд, надо было получить разрешение на эвакуацию. Если человек или семья не принадлежали к категориям населения, которым был дан приоритет в эвакуации (рабочие вывозимых предприятий, семьи командиров РККА и госбезопасности, семьи работников аппарата и дети до 15 лет), получить такой документ было трудно, иногда невозможно. Уже в эвакуации без этого документа также было невозможно получить продовольственные карточки, без которых практически не существовало способа добыть пропитание. Миллионы людей эвакуировались без разрешений и документов. Они фактически самостоятельно добирались до тыла. Иногда удавалось получить разрешение по дороге. По некоторым данным такие разрешения приобретались и за взятки. Многие получали соответствующие документы уже в местах эвакуации, найдя работу.
Составы ехали на восток под постоянным обстрелом противника. Большинство из них обстреливались немецкими самолетами, в поездах были убитые и раненые. То же можно сказать и о переправах через многочисленные реки, и о дорогах, запруженных беженцами. Таким образом, далеко не все эвакуированные достигли тыла.
Начиная с 5 июля 1941 года, на основных железнодорожных узлах были открыты эвакуационные пункты. Уже к 18 июля их было 120. Эти пункты принимали эшелоны, выдавали хлеб и кипяток, в некоторых из них были столовые и душевые. Их целью была материальная поддержка беженцев. К этому моменту в дороге находились уже миллионы людей.
Учет эвакуированных был далеко не полным. Занималось учетом Управление по эвакуации населения. По данным на 10 декабря 1941 года, было поименно учтено 3.074.000 человек. В начале 1942-го произвели перепись, в соответствии с которой в восточных районах находилось 7.417.000 эвакуированных. По официальным данным, в тыл было переправлено до 17 млн. граждан (по более ранним данным — 12 млн.). Многие не были учтены, поскольку жили у родственников на восточных территориях, либо передвигались в тыл своими силами. Так, по данным на 18 июля 1941 года около 1 млн. эвакуированных не доехали до пунктов назначения, а поселились у родственников и знакомых на пути следования.
Даже те, кто получал карточки, голодали. Так, на неработающего человека, как правило, полагалось 200 г. хлеба в день Привилегированным неработающим людям, а также детям в детских учреждениях полагалось 600 г. в день. Работающие, как правило, получали от 600 до 800 г. в день. Именно этим объясняется тот факт, что многие из подростков, начиная с возраста 12-13 лет, в эвакуации стремились попасть на работу. Для многих это была единственная возможность выжить.
Разными были и условия жизни в эвакуации. Те, у кого были в тылу родственники и знакомые, как правило, предпочитали обращаться к ним. Работники эвакуированных предприятий часто жили в бараках, а первое время даже в многоместных переполненных палатках. Частенько семья занимала трехэтажные нары по количеству членов семьи, отделяясь от других жителей барака простынями. На более поздних этапах строили картонные и деревянные перегородки. В других местах людей селили по уплотнению. То есть к семье в квартиру подселяли еще одну семью.
Некоторые эпизоды эвакуации Бердянского населения удалось восстановить из разрозненных частей и отдельных кусочков. Так, 6 октября 1941 года из порта Осипенко (г. Бердянск) на Ейск отправились два парохода. Вот отрывок из рассказа немецкой поэтессы Эллины Рибель «Где ты, Люся!»: «…Всех русских немцев из их Бердянска эвакуируют. Сказали, что плыть будут пароходом в Ейск. Останутся ли они там, или поедут дальше? Подальше от войны? А почему только русских немцев?
Городская пристань. Со всех сторон крики. Всех торопят. Сколько людей! Подумать только, сколько в их городе русских немцев… И люди двигаются к причалившим пароходам…
— «Чатырдаг», — читает Люся название парохода, — Это из Крыма. Так названа одна из вершин крымских гор. Я читала…
6 октября 1941 г. Вечер. Два парохода берут курс на Ейск. На одном из них, «Чатырдаг», семья Гертер или вернее то, что осталось от некогда большой семьи.
Суда недалеко отплыли и ещё можно было различить очертания стоящих на берегу, как началась бомбёжка. Паника повсюду. Люди кричат, выбрасываются в море. Одних накрывает волна и уже навсегда, других с силой и яростью бросает, разбивая о борта, засасывая в солёную глубь. Женщины в ужасе размахивают кто белым бельём, кто простынями, поднимают своих малышей на вытянутых руках — самую дорогую ношу — указывая на то, что груз мирный. Чтобы не бомбили. Резкий толчок. Пароход словно подбросило и немного развернуло. Снаряд упал в корму. Дым заволакивает судно. Все просят капитана зайти в Бердянскую косу и там переждать.
— Вы не понимаете, — кричит капитан, — Вы не понимаете! Вас перестреляют там, как куропаток! Плывём дальше. Без паники! — и чуть тише добавил, — Как Бог даст. А может, обойдётся.
Он отдаёт приказ заглушить моторы. Свет гаснет и под дымовой завесой, положа корабль на волну, капитан продолжил свой путь. Ночь. «Чатырдаг» был далеко впереди, когда с другого корабля поступил сигнал «SOS». Соседнее судно тонуло.
— Я не могу взять людей, я не могу вернуться, — выкрикивал капитан, — У меня на борту почти пять тысяч.
С берега провожающие видят, как бомбят пароходы. Ещё долго местные жители будут вылавливать погибших из вод Азовского моря, находя среди мёртвых родственников и знакомых. Знал ли кто из них, что «Чатырдаг» уцелел? Знали ли они, что придя в порт Ейска, пароход не смог причалить ибо путь к причалу был заминирован? Вряд ли из тех, кто оставался в тот осенний вечер в Бердянске узнают, что когда путь был чист и люди, поддавшись свежей волне воздуха, начали сходить на берег, очередной воздушный налёт унес с собой более двух тысяч жизней…
В начале войны немецкое население, проживавшее на территории Крыма и Украины, депортировано и выслано на Урал и Казахстан. Семья Гертер — не исключение. Только тогда 06.10.1941 года они об этом не знали. Все думали, что это эвакуация.
Отец девочек, Константин Иванович Гертер, умер в эшелоне от язвы 12-перстной кишки. В возрасте пятидесяти четырёх лет. Гертер, которые были на корабле, проделали нелёгкий путь: из Ейска — в Махачкалу, затем — в Красноводск, оттуда поездом до Алма-Аты, и почти сразу — в Актюбинскую область на станцию Шартанды и только потом уже на Урал — в г. Гремячинск.
Глава семьи, Иван Мартынович, похоронен в г. Ейске. Во время воздушного налёта он был смертельно ранен осколком снаряда, что угодил в корму парохода.
Антонина от контузии не проронила больше ни слова…».
Как назывался второй пароход, и затонул ли он, к сожалению, выяснить не удалось. Может, каким-то чудом все-таки спасся, поскольку в списках судов затонувших в Азовском море, (ни по времени крушения, ни по району) — ни одно судно не значится.
А грузовой пароход «Чатырдаг» погиб через три месяца в Феодосийском заливе. После выгрузки в порту Феодосия воинского подразделения вышел в обратный рейс и был атакован 10 бомбардировщиками. Часть команды спаслась в единственной сохранившейся шлюпке. Остальные члены экипажа были подобраны из воды портовыми средствами. Сведений о погибших нет. (ЦА ММФ, ф. 65, оп. 3, (доп.), д. 2, л. 97-98; ЦВМА, ф. 38, д. 2286, л. 105; ф. 55, д. 5127, л. 90; Музей МФ).
Выходит, что при депортации жителей немецкой национальности местные власти Бердянска (Осипенко) слукавили, объявив депортацию эвакуацией. При этом эвакуация (или, если угодно, депортация) происходила достаточно пристойно и без особого пристрастия.
Однако, ужасы и тяготы эвакуации переживали все люди, по ряду причин или волею судьбы стронувшихся с обжитых мест. Вот отрывок из воспоминаний еврейской семьи: «…После нескольких дней пути мы прибыли в Осипенко. Там мы прожили только несколько спокойных дней. Дядя Исаак (муж Анюты) был призван в армию. Вся семья могла теперь надеяться только на силы моей матери (два пятилетних мальчика, восьмидесятилетний старик и больная тетя Анюта). После нескольких недель снова существовала опасность оказаться в руках немцев, так как они приближались к городу. Спешно бежали мы на рыбацком судне через Азовское море в Ейск. Попутно пассажиры и экипаж испытали ужасный шторм, который наш корабль чуть было не опрокинул. Это было счастьем, что мы в живых оставались…».
Среди пожилых евреев, переживших первую мировую войну и помнивших поведение австрийцев и немцев, а также еврейские погромы гражданской войны, существовало мнение, что все «как нибудь, да обойдется»… По крайней мере, без предвзятого отношения к национальности. Заблуждение, оказавшееся для многих смертельным…
С другой стороны, по свидетельству очевидца, в то время сына партийного работника низшего звена из Ногайска (Приморска), несмотря на приоритет в эвакуации (семья работников аппарата и дети до 15 лет), в атмосфере всеобщего хаоса и неразберихи о них или забыли, или бросили. Соседи посоветовали «спрятаться» у знакомых в болгарском селе, поскольку немцы считали Болгарию (в том числе и приазовских болгар) союзниками, и оккупационный режим в немецких и болгарских селах был менее строгим. Там они и пережили всю оккупацию в постоянном страхе за свою жизнь. Однако никто из односельчан в «управу» с доносом не побежал. А ведь иногда бывало совсем наоборот! В Бердянске находились «неравнодушные» жители, которые торопились с доносами на соседей или знакомых, которые укрывали евреев, а в Мариуполе коменданту даже пришлось издать приказ о наказании за ложные доносительства!
Вот тоже из воспоминаний: «…Когда началась война, Вере Иваненко шел семнадцатый год. К тому времени она уже почти два года работала в трикотажной мастерской при детском доме. Вместе с такими же девчонками вязали носки, обмотки для солдат Красной Армии… Немцы… все ближе подбирались к Мелитополю. В сотне километров от него был Бердянск, где родилась и жила Вера. Детский дом в срочном порядке эвакуировали на пароходе в Ростов. О судьбе тех детей так никто больше ничего не знал. Говорили, что пароход разбомбили немецкие самолеты.
…Девчонок и мальчишек отправили рыть окопы и противотанковые рвы. С утра до вечера, до изнеможения, копали и копали. Вражеские самолеты буквально забрасывали их листовками на русском и украинском языках. Этот текст Вера Антоновна помнит до сих пор: «Девочки и дамочки не копайте ямочки, через ваши ямочки пройдут наши таночки».
Красная Армия отступала от Мелитополя, но бригадир все еще не разрешал подросткам возвращаться домой. Они продолжали работать, а когда немцы заняли часть города, в срочном порядке запрягли лошадей и на телегах добирались в Бердянск.
По словам Веры Антоновны... немцы их не обижали, но с ними были румыны, которые грабили, отбирали и воровали продукты у населения. Частенько жители даже жаловались в комендатуру немцам на румынов. На какое-то время они прекращали свои злодеяния. Немцы ходили по домам и спрашивали: «Курка есть, яйки?». Взамен они давали бензин или кремневый камешек для зажигалок, спичек ведь не было.
Взрослые по-прежнему ходили в Бердянске на работу, а молодежь немцы обязали зарегистрироваться на бирже труда и ежемесячно ходить отмечаться… Так начался май 1942 года для многих жителей Бердянска, в том числе для Веры, ее младшей сестры Нади, их племянницы. Более полутора тысяч Вериных сверстников отправились пешком из Бердянска в Мелитополь в сопровождении немцев. Добирались несколько суток, из ближайших деревень по пути следования добавлялось число будущих узников фашистских лагерей...».
24 августа 1945 года Вера Антоновна Либик (Иваненко) была репатриирована из Германии. Американцы бывших узников фашистских лагерей передавали Красной Армии. Сестры возвратились домой в Бердянск из Германии. Она устроилась на завод разнорабочей. Некоторое время вместе с другими заводскими сверстниками они откапывали и перезахороняли трупы евреев, расстрелянных немцами... Потом Веру Алекасандровну и ее сестру вызвали в НКВД и после суда отправили на три года в Кемерово на вольное поселение за то, что были в немецком лагере, хотя старшая сестра всю войну работала в Бердянске». («Черлакские вести», газета Черлакского района Омской области).
Из воспоминаний Володарской Валентины Нестеровны: «Я родилась 7 мая 1930 года в Калужской области, ст. Ферзиково. После ареста в ноябре 1933 года моих родителей по политическим мотивам, нас с сестрой и братом отправили в детский приемник г. Москвы. Оттуда распределили по детским домам г. Днепропетровска, затем г. Бердянска Запорожской области. В 1941 году нас эвакуировали в Омскую область…». Значит, детдомовцам все-таки повезло, они выжили и добрались до места.
Из сборника «Очерки истории Черлака и Черлакского (1720—1985 годы)» (С.В.Новиков, Омск — 2008): «В 1942 году в Черлакский район прибыли детские дома… из города Бердянска — 300 детей... По воспоминаниям Сотникова, хранящимся в Черлакском краеведческом музее, дети из Бердянска были размещены с помощью колхозов и колхозников Черлакского поселкового совета, а также рабочих «Заготзерно» и служащих райцентра… Естественно, дети тоже оказывали посильную помощь при полевых работах. Так, за 1943 год воспитанники трех детских домов выработали 1465 трудодней, а также участвовали в заготовке целебных трав и сборе теплой одежды для нужд фронта…».
Константин ЗАВЬЯЛОВ



















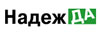







Комментарии:
нет комментариев