
Кадры решают все!
По следующей версии, могли быть расстреляны заключенные НКВД, но только «спецконтингент» — инженерно-технический персонал так называемой «шарашки» — закрытого конструкторского бюро НКВД. В этом случае вероятна попытка эвакуации даже при серьезных политических статьях осуждения, но также вероятна и ликвидация. А внешне выглядели они вполне по-граждански. «..Только условия работы в военизированной обстановке способны обеспечить эффективную деятельность специалистов в противовес разлагающей обстановке гражданских учреждений», — писал в письме Молотову зам. председателя ОГПУ Г. Ягода.
8 января 1939 вышло постановление Правительства N 9сс о снятии в период с 1 февраля по 1 марта 1939 с авиазаводов войсковой охраны НКВД и ее замены ВОХР, поэтому для эвакуации «шарашки» должно было быть задействовано какое-либо специальное подразделение НКВД.
Шарашка (шарага) — жаргонное название для секретных НИИ и КБ, подчиненных НКВД/МВД СССР, в которых работали заключённые инженеры; также пренебрежительное название организации-работодателя или контрагента. В системе НКВД именовались «особыми техническими бюро» (ОТБ), «особыми конструкторскими бюро» (ОКБ) и тому подобными аббревиатурами с номерами.
НКВД был не только крупнейшей строительной организацией, но и многопрофильным конструкторским бюро. Там разрабатывали все, начиная от систем закрытой связи и заканчивая боевыми самолетами.
Исторические корни Особых и Специальных конструкторских бюро восходят еще к 1928-1930 годам, к эпохе первой массовой кампании борьбы с вредительством. Эта кампания под руководством Экономического управления ЭКУ ОГПУ привела к появлению массы высококвалифицированных специалистов, использование которых на лесоповале было нерационально. Скорее всего, первоначальный замысел исходил от самих арестованных авиаконструкторов, предпочитавших работу по специальности, пусть даже в заключении, нечеловеческим условиям лагерей ГУЛАГа.
После трехлетней кампании по борьбе с «вредительством» в военной промышленности, к началу весны 1930 г. в военной промышленности и на военных производствах осталось 1897 инженеров и 4329 техников (в 1928/29 г. только на 45 заводах, подчиненных ГУВП, насчитывалось 18153 служащих), при потребности более 10 тыс. инженеров и 16,5 тыс. техников. Правительство предложило в течение 5 лет «в целях полного покрытия потребностей военной промышленности охватить военно-промышленным уклоном не менее 20 тыс. инженеров и техников» – будущих выпускников Военных академий, технических вузов и техникумов при объединениях военной промышленности.
Кризисное положение с инженерно-техническими кадрами усугублялось слабостью научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы военной промышленности. Большинство заводских лабораторий и конструкторских бюро не имели достаточных площадей и подходящих помещений. Опытные заказы выполнялись непосредственно в цехах, тогда как более выгодно было заниматься их изготовлением в специальных опытных мастерских, укомплектованных наиболее квалифицированными рабочими и техниками.
Поэтому еще 15 мая 1930 года появился «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного государственного политического управления» об «использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство», подписанного В. В. Куйбышевым и Г. Г. Ягодой.
В 1930 году для этой цели было организовано Техническое отделение ЭКУ ОГПУ, руководивший работами специальных ОКБ, использовавших труд заключенных специалистов. В 1931 — 1936 годах в целях конспирации Техническому отделению последовательно присваивались номера, 5-го, 8-го, 11-го и 7-го отделений ЭКУ ОГПУ СССР. В сентябре 1938 по приказу Ежова был организован Отдел особых конструкторских бюро НКВД СССР (приказ НКВД № 00641 от 29 сентября 1938 г.). 21 октября 1938 г. в соответствии с приказом НКВД № 00698 данное подразделение получило наименование — «4-й спецотдел». 10 января 1939 г. приказом НКВД № 0021 преобразован в Особое техническое бюро (ОТБ) при НКВД СССР для использования заключенных, имеющих специальные технические знания
Однако, еще в октябре 1933 года циркуляром ОГПУ №109 в ГУЛАГ предписывалось сообщать: «…обо всех высококвалифицированных специалистах, осужденных как Тройками ОГПУ, так и органами НКЮ… В сведениях надо указывать: фамилию, имя, отчество, когда и кем осужден, статью, срок, специальность, стаж, последнее место работы… По получении сведений ГУЛАГ ОГПУ будет выдавать индивидуальные наряды на направление осужденных специалистов в лагеря.». На каждого специалиста составлялось особое дело, а карточка с его личными данными поступала в специальную картотеку при центральном аппарате ГУЛАГа.
Так что в НКВД были отлично осведомлены о количестве и специализации репрессированных специалистов.
В конце 1934 вошло в действие новое положение о НИИ ВВС, и в число задач было включено «выполнение НИР в области авиации и участие в таких работах, проводимых другими организациями и учреждениями...», а также разработка и совершенствование методик летных испытаний образцов авиационной техники и вооружения. Но взаимоотношения НКВД с военной промышленностью не ограничивались отношениями заказчика и подрядчика. На всех военно-промышленных предприятиях и конструкторских бюро специальные части НКВД несли наружную охрану, а подчиненные территориальным управлениям НКВД первые отделы выполняли разнообразные режимные функции, связанные с охраной «государственной тайны».
По фактам нарушений технологического процесса и другим недостаткам работы военно-промышленных предприятий ЭКУ (экономическое управление) НКВД составляло для Комиссии Обороны СНК СССР «специальные сообщения».
Оперативно-чекистское управление ОГПУ-НКВД периодически осуществляло «мероприятия по очистке заводов военной и авиационной промышленности от контрреволюционных и антисоциальных элементов». Так, только за три месяца (март, апрель и май) 1933 г. ими было «вычищено» 11934 человек, из которых 74% являлись рабочими, а 7,4% инженерами и техниками. Из этого количества 10854 человек были уволены с работы, а 1080 человек приговорены к различным срокам лишения свободы. Для обвинений в актах «вредительства», как правило, использовались ошибки в планировании, брак в работе, поломки оборудования, несчастные случаи и т.д. Затем к проверке приступали следственные бригады 1-го Управления НКВД, которые, словно соревнуясь между собой, выдвигали обвинения в отношении подозреваемых, порою чудовищные по своей нелепости, вплоть до «измены Родине». Нагнетавшаяся атмосфера подозрительности и шпиономании настраивала людей на разоблачения все новых и новых «врагов народа».
Пестрота политических симпатий инженеров старой школы и неизбежные отдельные неудачи в конструкторских разработках в атмосфере подозрительности и мнимой бдительности дали свои печальные результаты: отголоском шахтинского дела и процесса промпартии явилось дело о контрреволюционной вредительской организации, якобы существовавшей в авиапромышленности.
О знаменитых КБ знают все, а о тихих и незаметных тружениках, создававших отдельные узлы и детали к новой технике, станки и приспособления, позволявшие опытный (пусть и сверхгениальный!) образец превратить в сотни серийных экземпляров – об этих КБ, благодаря неустанной опеке ОГПУ-НКВД, известно очень немного.
Одним из самых неприятных сюрпризов для советского руководства стало обнаружившееся отставание военно-технического потенциала от уровня нацистской Германии. Информация из Испании свидетельствовала о несоответствии основных образцов вооружения РККА требованиям современной войны. Одновременно возник ряд «узких мест»: катастрофы и аварии опытных образцов самолетов (И-180, СПБ, ВИТ-2, и др.), неудачи в военном кораблестроении, медленное развитие работ по созданию новых технологий порохового производства и многое другое...
Кадры для решения этих задач появились по итогам «оргвыводов». В заключении оказались многие авиаконструкторы; двигателисты; судостроители; артиллеристы; специалисты по порохам и многие другие.
В сентябре 1937 г., после потерь в Испании нужно было найти виновных. И нашли их быстро. После испанской войны из авиапромышленности было изъято 280-300 специалистов самой высокой квалификации. Часть погубили, часть отправили в тюремные КБ.
В авиапроме только за 1937-1938 гг. на 53 основных заводах сменили 32 директора. Были арестованы директора и основной руководящий состав всех ведущих авиазаводов в Москве, Ленинграде, Воронеже, Новосибирске и др. В танковой промышленности репрессиям подверглись руководители почти половины предприятий. Судостроительная промышленность лишилась директоров всех основных заводов. Только на ленинградских судостроительных заводах на место уволенных и репрессированных были назначены 85 новых начальников цехов и их заместителей, 78 руководителей отделов, 27 начальников участков, 124 мастера.
В 1937–1938 гг. были расстреляны директор ЦАГИ Н. М. Харламов, начальник 8-го отдела ЦАГИ В. И. Чекалов, заместитель начальника отдела подготовки кадров ЦАГИ Е. М. Фурманов, начальник отдела 1-го (авиационного) Главного управления Наркомата обороной промышленности А. М. Метло, директор завода № 24 И. Э. Марьямов, директор завода № 26 Г. Н. Королев, заместитель начальника планово-технического отдела завода № 156 К. А. Инюшин, директор НИИ–3 (ракетный НИИ, в котором работали будущие академики С. П. Королев и В. П. Глушко) И. Т. Клейменов, технический директор этой организации Г. Э. Лангемак. В октябре 1938 г., через семь месяцев после ареста, в застенках Воронежского УНКВД расстреляли создателя первых советских серийных пассажирских самолетов, авиаконструктора К. А. Калинина. Обвинение было стандартным для 1937 г. — «антисоветская деятельность и шпионаж». Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда продолжалось всего 10 минут, не было ни защитника, ни свидетелей. Приговор привели в исполнение сразу после окончания заседания. В том же году был арестован и получил 8 лет ИТЛ будущий Генеральный конструктор ракетных двигателей В.П. Глушко. Только к 1939 г. на собраниях хозяйственных активов очень осторожно стали поднимать вопрос о негативности с экономической точки зрения подобных действий, поскольку такая система вела к полному развалу целых заводов и ОКБ.
В истории первых месяцев работы ОТБ много неясного. Ни документы, ни воспоминания участников событий не могут сказать, когда и где были созданы первые конструкторские бригады. До тех пор, пока не существовало единого координирующего центра, привлечение заключенных специалистов к работе по специальности производилось местными органами НКВД с разрешения Центра. Имеющиеся данные позволяют предположить, что первые особые КБ создавались на основе подряда.
НКВД предоставляло по договору кадры предприятиям оборонной промышленности, испытывавшим трудности во внедрении новых технологий. Таким образом, в частности, сформировались ОТБ на заводах боеприпасов в сентябре – октябре 1938 года. Собственной проектной инициативы конструкторские бюро ОГПУ не имели. Основной задачей создаваемых бюро были ликвидация кризисных ситуаций и выполнение конкретных заданий оборонного значения.
Информации крайне мало, но если до создания Особого технического бюро НКВД, этим занимались управления НКВД «на местах», то похоже, было «модненько» иметь свое «зековское» бюро. Типа кружков самодеятельности! И «таланты» под боком — разоблачил директора и заводских «спецов» — вредителей, а потом ненавязчиво в кабинете намекнул, что можно скупить ударным трудом... Статьи-то были Ого-го!!! По большим статьям, если не стреляли сразу, отправляли „в дальние края». За незначительные – размещали в местных ИТК (ИТЛ). При этом у «приговоренного» оставался мизерный, но шанс на спасение в случае успешной работы или серьезного технического изобретения. Согласитесь, сидеть за чертежной доской с трехразовым питанием гораздо приятнее, чем пуля в затылок или рудник с лесоповалом!.. И себе лучше, и для государства полезнее.
Отчетность НКВД опять же. И шпионскую группу вредителей обезвредили, и КБ НКВД собственное создали на подряде...
С увеличением числа заключенных инженеров стало возможным формировать из них полноценные конструкторские бригады, занимавшиеся самостоятельным проектированием новых образцов. Передача этим бригадам части работы позволяла разгрузить «вольные» КБ и повысить отдачу от их работы. В 1938 г. из ожидающих своей судьбы в тюрьмах арестованных «врагов народа» снова начали формировать конструкторские коллективы, которые под охраной НКВД должны были работать на благо обороноспособности страны. Они существовали в рамках Отдела особых конструкторских бюро НКВД, в октябре 1938 г. переименованного в 4-й Спецотдел НКВД.
К 1939-1940 году репрессии стали существенным фактором развития советской авиапромышленности. На учете НКВД состояло свыше 36 тысяч специалистов различных профессий. Распределение ценных кадров находилось под личным контролем наркома, и без его особого разрешения не могли быть предприняты никакие действия. «Нецелевое» использование инженерно-технических кадров на общих работах строго каралось: виновные снимались с занимаемых должностей и могли попасть под суд. Но это еще не значит, что репрессированных оборонщиков непременно должны были использовать по специальности. Все они имели инженерное образование, а на многочисленных строительствах ГУЛАГа работы для инженеров всегда хватало.
Для координации деятельности многочисленных ОТБ с нуждами и возможностями государства и вооруженных сил приказом Народного комиссара внутренних дел №0021 от 10 января 1939 года при НКВД было создано «Особое техническое бюро для использования заключенных, имеющих специальные технические знания».
Работой ОТБ руководил непосредственно Нарком внутренних дел. Тематический план работ Бюро разрабатывался на основе предложений заключенных и заявок государственных органов, и утверждался непосредственно Комитетом обороны. Таким образом, Остехбюро работало по заказу и под контролем высшего руководства страны.
Ничего подобного в начале 30-х годов не существовало. Каждое отраслевое ОТБ работало совершенно самостоятельно по заказу «своего» ведомства, на своем заводе. Координации действий даже между организациями смежного профиля не существовало, не говоря уже об общем тематическом плане. Создание ОТБ позволило централизовать проведение опытно-конструкторских работ в рамках одной организации, «замкнутой» на Комитет обороны.
Ранее ОТБ курировались представителями ОГПУ в районах их формирования. В 1939 году контроль над ними перешел в руки Л.П. Берия. Каждую группу возглавлял помощник начальника ОТБ. В его обязанности входило создание необходимых для работы условий: организация помещений и рабочих мест, снабжение, заключение договоров на проведение исследований и технических консультаций и т.д. Он же обязан был обеспечить формирование тематического плана для группы. Подготовленные варианты обсуждались на постоянном совещании, после чего оптимальный вариант сводного плана отправлялся на утверждение.
Наконец, предусматривалось привлечение к работам ОТБ вольнонаемных сотрудников из числа молодых перспективных ученых. Таким решением руководители НКВД «убивали двух зайцев»: во-первых, привлечение квалифицированных кадров позволяло решить проблему с информационным обеспечением работ и держаться на нужном научно-техническом уровне, во-вторых, молодые ученые получали возможность быстрой реализации своих идей, а попутно набирались научного и производственного опыта.
Руководство бюро не могло прямо вмешиваться в процесс формирования плана: начальник группы просто собирал поступившие предложения и выносил их на суд постоянного совещания. Тематические планы формировали не НКВД, а Комитет обороны и НАВМФ, НКБ и НКАП, представляя заявки на выполнение работ. Заключенные имели ограниченную проектную инициативу: они могли предлагать свой вариант только в случае, если проектирование велось на конкурсной основе, или в том случае, когда их предложение (всесторонне обоснованное) превосходило требования проектного задания.
Константин ЗАВЬЯЛОВ



















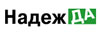







Комментарии:
нет комментариев