
Завод-призрак
Если судьба всех довоенных бердянских предприятий (в том числе и эвакуированных) более-менее ясна, то механический завод № 49 слегка напоминает «Летучего Голландца». Вернемся к истокам: «Попытка реанимировать авиационное производство в Бердянске была предпринята спустя почти 10 лет. В апреле 1928 года в СССР прибыл один из директоров итальянского концерна SIAI Л. Каппа, предложивший предоставить в концессию сроком на 15 лет один из заводов для производства летающих лодок (до 40-50 единиц в год)... Инициатива получила одобрение Научно-технического комитета Управления ВВС и главного концессионного комитета (Главконцесском). Последний подготовил проект договора, предложив в концессию заброшенный завод «Матиас». Но условия оказались неприемлемыми для итальянцев: количество приобретаемых самолетов ограничивалось 30 единицами в год, цена одной машины сокращалась на 20% по сравнению с предложенной. Кроме того, SIAI заставили покупать у советских заводов сырье и полуфабрикаты — более дорогие и при том худшего качества, чем итальянские. Переговоры длились больше года. К ним подключилась фирма «Изотта-Фраскини», предлагавшая построить в Бердянске завод по выпуску авиамоторов «Ассо». В августе 1929 года Управление ВВС объявило о намерении заказать в Бердянске 40 самолетов и 100 моторов в год. Но Главкоцесском продолжил настаивать на своих требованиях при передаче завода в концессию, и в конечном итоге дело свелось к покупке советской стороной партии летающих лодок в Италии, а также приобретению лицензии на выпуск гидросамолетов S.62. Но строили эти гидросамолеты уже не в Бердянске, а в Таганроге». Даже обидно! А почему в Таганроге, а не в Бердянске?!
Исходя из даты переговоров Главконцесскома с итальянцами — это конец НЭПа (новой экономической политики) в СССР. Это время попыток сотрудничества частных предпринимателей с государственными чиновниками. В самом неприглядном свете — взяточничество и казнокрадство. Присутствовали ли при переговорах «шкурные» интересы или в Главконцесскоме просто заняли принципиальную позицию? Учитывая особую «любовь» ГПУ к иностранцам, последнее все-таки вероятнее. В апреле 1929 года официально был провозглашен курс на форсирование социалистического строительства. Но уже в конце 1928 года новые концессионные договоры перестали подписывать, а старые расторгали под разными предлогами. В 1930-1931 годах Главконцесском был низведен до положения экспертного Совета по делам концессионных предприятий, к тому времени уже агонизировавших. Из 177 человек, работавших в комитете в период расцвета концессионной деятельности, осталось всего шестеро.
29 июня 1937 г. в обязанности и.о. председателя ГКК вступил З.М. Беленький (по совместительству с работой заместителем председателя Комиссии советского контроля при СНК СССР). 25 июля 1937 г. он направил в 3-й отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР записку «О фактах антигосударственной работы Главконцесскома» и 14 декабря 1937 г. СНК СССР выпустил постановление «Об упразднении Главного концессионного комитета при СНК Союза ССР». После этого контроль за концессиями осуществлял Наркомвнешторг.
Однако вернемся к Бердянску. Из воспоминаний нашего земляка, авиаконструктора Г.М. Можаровского «Пока бьется сердце»: «После окончания академии меня направили именно туда, куда я хотел: в конструкторское бюро опытного морского самолетостроения (ОПО-3), которым в то время руководил Главный конструктор Дмитрий Павлович Григорович… С волнением шел я на свою новую работу: все было незнакомо, а главное, что тревожило, — каких я встречу там людей. Ведь от того, с кем придется работать, зависит все. Велика же была моя радость, когда я увидел в конструкторском бюро нескольких товарищей, окончивших нашу академию… Здесь же в КБ работал Владимир Иванович Никитин, окончивший нашу академию в первом выпуске и являвшийся в то время заместителем Григоровича по производственной части. Никитин принял меня строго, но как-то по-отечески просто. Он разъяснил, что, прежде чем браться за конструирование, мне необходимо освоить опытное строительство гидросамолетов… Время шло, и сборка моего гидросамолета благополучно подходила к концу. Скоро можно будет снять лодку гидросамолета со стапеля и заняться внутренним оборудованием. Наконец гидросамолет закончили и отправили на берег Азовского моря.
Мне было приятно, что мое первое детище начнет свою жизнь там, где я провел свои детские и юношеские годы. В этом я усматривал некий символ.
Трудно передать, что я почувствовал, когда построенный мною гидросамолет впервые поднялся в воздух.
В день испытаний с самого раннего утра я был в ангаре, где стоял мой красавец. Когда его погрузили на специальную тележку и повезли по наклонному бетонированному спуску к морю, я все время находился рядом. Наконец самолет в воде. Летчик включил мотор, и машина начала свой разбег против ветра. Все быстрее и быстрее бежал самолет, толчки становились все ощутимей. Вот он уже заскользил на редане, оставляя за собой четкий след. Я сидел рядом с пилотом и чуть не пел от радости…
Мы летали, наверное, более часа. Потом гидросамолет приводнился, его снова погрузили на тележку и отправили в ангар…
После небольших доводок и повторного испытания мы переправили самолет в Севастополь, где передали в распоряжение военно-морской базы…».
Попробуем высчитать по воспоминаниям, когда Георгий Можаровский был в Бердянске: «Незадолго до защиты дипломного проекта в марте 1928 года Резунова, Розенеля и меня вызвали в Революционный Военный Совет СССР. Там за разработку прицела (в тексте воспоминаний: «Нам удалось создать первый отечественный прицел для бомбометания, работающий на принципе синхронизации…»), «каждому вручили грамоту и ценный подарок. Я получил часы «Омега»…».
Согласно биографии, в конце 1927 года коллектив Д. П. Григоровича — отдел морского опытного самолётостроения (ОМОС) был переведен в Москву и получил название ОПО-3 (опытный отдел-3). А уже 1 сентября 1928 года Григорович был арестован ГПУ.
Снова из воспоминаний Г. М. Можаровского: «Вскоре судьба моя изменилась, большинство конструкторов, и меня в том числе, перевели от Д. П. Григоровича в другое КБ… Еще несколько недель назад кто-то из сотрудников нашего КБ сообщил интересную новость: …нам официально объявили, что французский конструктор Ришар уже приехал, что создается КБ (ОПО-4) под его руководством и что многие наши сотрудники переводятся к нему. Я тоже попал в их число…».
Поль Эмэ Ришар (французский авиаконструктор, специалист по гидросамолётам) приехал в СССР и работал в 4-ом опытном отделе или ОПО-4, он же МОС ВАО (Морское опытное самолётостроение Всесоюзного Авиаобъединения) при заводе № 28 в Москве с 1928 по 1931 гг. Следовательно, командировка Можаровского в Бердянск могла состояться только в 1928 году, и не ранее марта. К этому придется добавить время на сдачу диплома и на участие в изготовлении гидросамолета. Судя по всему, Можаровский вернулся в Москву и перешел к Ришару до ареста Григоровича, т. е. до 1 сентября 1928 года. Почему же Можаровский испытывал самолет в Бердянске, а не в Таганроге?! О том, как именно осуществлялось строительство самолетов на заводах того времени, можно достаточно подробно узнать из рассказа «В годы первых пятилеток», автор — Емельянов Сергей Николаевич.Таганрогский аэропланный завод существовал с 1916 года. С 1920 по 1923 — это авиационный завод «Лебедь», с 1923 по 1927 — ГАЗ № 10 «Лебедь», с 1927 по 1934 — Авиационный завод № 31.
Основной вывод: в 1928 году в составе Всесоюзного Авиаобъединения уже действовал завод (или мастерские) в г. Бердянске, причем с ангаром и специально оборудованным спуском к морю для гидросамолетов.
Для развития авиационной промышленности время было самое подходящее: 16 октября 1929 года вышло постановление распорядительного заседания (РЗ) Совета Труда и Обороны (СТО) СССР «О мероприятиях по развитию авиапромышленности в течение 1929- 30 — 1932-33 года (постановление P3 СТО от 16.10.1929 г. к протоколу P3 СТО № 41 от 30.10.1929 г. по п. 12), 30 ноября 1929 № 42 постановление P3 СТО «О развертывании строительства авиамоторов».30 декабря 1929 вышло постановление РЗ СТО «О мероприятиях по усилению производства моторов и самолетов».
Очень странно, что при уже существующем производстве — «…в 1930 году первой ударной стройкой Бердянска стало восстановление бывшего завода Матиаса (в нагорной части), которому присвоили номерной знак 49 и «…поручили изготавливать станки и инструменты, которыми уже другие заводы будут изготавливать детали для самолетов». При этом стоит напомнить, что территориально речь идет лишь о площадке в верхней части города (ныне действующего «Южного завода гидравлическиз машин»). Судьба основной площадки завода Матиасов, которая находилась рядом с Первомайским заводом, — не совсем ясна. По ряду свидетельств, Гражданскую войну основное производство завода Матиасов, все-таки не пережило.
С 1927 года существующим «кадровым» военным заводам были присвоены номера — с 1-го по 56-й. Интересно, что нумерация военных заводов была сплошной. Всего было 56 заводов. Заводом № 1 стал московский авиационный завод имени Авиахима, заводом № 2 — ковровский пулеметный завод, заводом № 3 — ульяновский трубочно-взрывательный завод имени Володарского, заводом № 7 — ленинградский артиллерийский завод, Таганрогский ГАЗ № 10 «Лебедь» с 1 декабря 1927 года стал называться завод № 31 и т.д. Усиление военной значимости авиапроизводства, проходившее на фоне обострения напряженности как внутри страны, так и за рубежом, послужило основанием для принятия решения по его полному засекречиванию. А такой оборонный характер авиапроизводства несомненно требовал принятия адекватных режимных мер.
Тогда же была введена подписка о неразглашении (ответственности во внесудебном порядке), были наложены большие ограничения на публикации в печати, все, что касается характера производственной деятельности, местоположения, количества и качества продукции и т.д. Даже в стенной печати. Очень было ограничено кино-фото и аэросъемки на заводах, как и воинских частях. Быстро были созданы и разосланы на все оборонные предприятия инструкции о порядке засекречивания, введены новые номера и названия, новые бланки, печати, штампы. Вся переписка перешла под гриф «секретно». С предприятия было запрещено выносить даже стенгазеты, а потом и номера многотиражной газеты. Подписываться на них можно, а выносить с завода нельзя. Даже хождение по заводу для его же работников было ограничено. Было запрещено свободное хождение по территории завода, в каждый цех нужно было иметь специальную контрамарку к пропуску. Они были в каждом цеху разного цвета. Чтобы работать с документами и чертежами, технологическими картами и т.д. нужно было теперь получить специальный допуск. В воротах цехов встали вооруженные вахтеры, а несколько позже бойцы специальных охранных войск НКВД.
Поскольку вся произведенная авиапромышленностью продукция поставлялись военно-воздушным силам Красной Армии, они для приемки авиатехники организовывали на каждом предприятии свое военное представительство.
По мере расширения круга «кадровых» военных заводов и передачи их из одного ведомственного подчинения в другое номера менялись, но в нескольких случаях однажды присвоенный номер оставался за предприятием на многие годы.
В начале января 1932 г. ВСНХ СССР был упразднен. Все военно-промышленные предприятия «кадра» и «запаса», на равных основаниях, были переданы в ведение Наркомата Тяжелой промышленности (НКТП) СССР, его главков и трестов, а именно: авиационные — в Главное Управление Авиационной промышленности (ГУАП); судостроительные — в Главное Управление Судостроительной промышленности (ГУСП); военно-химические — в Военно-Химический трест (Вохимтрест), Всесоюзный трест Органических Производств (ВТОП) и Всесоюзный трест Искусственного Волокна (ВИВ); оружейные, пулеметные, бомбовые, снарядные, минные и торпедные — в Главное Военно-Мобилизационное Управление; патронные и гильзовые — в Патронно-Гильзовый трест; орудийные — в Арсенальный трест; снарядные — в Снарядный трест; автобронетанковые — в Специальный Машиностроительный трест (Спецмаштрест), оптико-механические — в Государственное объединение Оптико-Механических заводов (ГОМЗ). По состоянию на 5 апреля 1934 г. в утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) список «кадровых» заводов «военной промышленности» входили 68 предприятий, на которых устанавливался особый порядок приема рабочей силы. Функции координатора деятельности военных заводов в системе Наркомтяжпрома выполняло его Главное Военно-Мобилизационное Управление (ГВМУ), разделенное в 1936 г. на Главное управление военной промышленности (ГУВП) и Главное управление боеприпасов (ГУБП). Если Бердянский механический завод в 1930-м году получил № 49, значит, он считался «кадровым» военным заводом ГУАП.
8 декабря 1936 г. был образован Наркомат оборонной промышленности (НКОП), в который из Наркомтяжпрома был передан Глававиапром вместе с предприятиями, организациями и учебными заведениями его системы. 21 декабря 1936 вышло постановление СНК СССР № 2139-425с и приказ НКОП № 454сс о передаче НКО Главкоавиа и ряда заводов: № 1 им. Авиахима им. Горького, № 16, № 18 им. Ворошилова, № 19 им. Сталина, № 20, 21 им Орджоникидзе, № 22 им. Горбунова, № 23, № 24 им. Фрунзе, № 25 им. Сталина, № 26 им. Павлова, № 27, № 28 им. Орджоникидзе, № 29 им. Баранова, № 30, № 31 им. Димитрова, № 32 Новый ЦАГИ, №№ 33, 34, 35 ЗОК ГУАП, № 39 им. Менжинского, Трест Установка, № 43 Дирижаблестрой, № 47 ЦАГИ, № 49 ЦИАМ (центрального института авиационных моторов — создан 5 сентября 1930 г.), № 81 ВИАМ. Институты МАИ, ХАИ, КАИ и Рыбинский АИ. Техникумы: Рыбинский авиатехникум, Парашютно-десантное бюро, Московский, Воронежский, Таганрогский, Казанский, Запорожский и Горьковский авиатехникумы, Гипроавиапром, Центральный базисный склад (ЦБС), Пермский, Новосибирский, Иркутский авиатехникумы, Московский авиатехникум завода № 24 и Иркутский авиатехникум завода № 124.
В соответствии с приказом НКОП № 60 от 30 декабря 1936 г. главным управлениям Наркомата были присвоены цифровые номера. Главное управление авиационной промышленности было переименовано в 1-е главное управление, в задачу которого входило всестороннее комплексное руководство авиационной промышленностью СССР. Начальник этого главка являлся заместителем Народного комиссара авиационной промышленности. В его непосредственном подчинении находились все предприятия, научно-исследовательские институты и организации авиационной промышленности.
В основные функции 1-го главного управления (ГУ) входило техническое руководство промышленностью, организация труда на заводах, подготовка и подбор кадров, капитальное строительство, планирование, снабжение, финансирование, учет и отчетность, организация управления промышленностью. Этому главку были подчинены заводы: № 1 имени Авиахима, №№ 16, 18 имени Ворошилова, №№ 20, 21, 27, 28 имени Г.К.Орджоникидзе, № 22 имени Горбунова, №№ 23, 24 имени Фрунзе, №№ 25, 26 имени Павлова, № 29 им. Баранова, №№ 30, 31 имени Дмитрова, №№ 32, 33, 34, 35, 39 имени Менжинского, №№ 43, 47, 49, 81, 83 имени Горького, №№ 19, 84, 99, 115, 116, 119, 120, 124, 125 имени Сталина, №№ 126, 132, 135, 145, 149, Комбинат № 150, Новый ЦАГИ, №№ 153, 154, 156, Трест «Установка», Дирижаблестрой; научно-исследовательские институты: ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, Гипроавиапром; учебные заведения: МАИ, ХАИ, Казанский и Рыбинский авиационные институты, Рыбинский, Московский, Воронежский, Казанский, Запорожский, Горьковский, Пермский, Новосибирский, Таганрогский авиатехникумы, Московский авиатехникум при заводе № 24, Иркутский авиатехникум при заводе № 125 и центральный базисный склад. Итак, Бердянский завод № 49 ЦИАМ имени Горького к началу 1937 года был подчинен 1-му ГУ НКОП.
Вот еще из истории советской авиации: «В июле 1941 г. в 968-й Севастопольский Краснознаменный ордена Суворова III степени исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк прибыл летчик-испытатель НКАП Н.Ф. Краснов, которому суждено было стать одним из лучших летчиков-истребителей ВВС Красной Армии, ныне незаслуженно забытому.
Николай Федорович Краснов родился в 1914 г. под Гороховцом. В 1934 г. закончил Тамбовскую школу летчиков, работал пилотом Гражданского Воздушного Флота, в 1936 г. стал летчиком-испытателем на заводе в Бердянске, где проводил испытания воздушных винтов новой конструкции. С 1938 г. работал летчиком-испытателем (ОКБ-19) на моторном заводе в Перми (завода № 19 имени И. В. Сталина)...
Служебные дела Николая Федоровича были отнюдь не столь блестящи как боевые. Человек независимый и гордый, он терпеть не мог чиновничьего надзора и попыток начальственного вмешательства в методы ведения боев. Его же постоянно дергали, переводили из части в часть. При этом, несмотря на выдающиеся результаты боевой работы, в течение 2-х лет до самой своей гибели он оставался почти в одном и том же звании и должности…». По некоторым данным, в Великую Отечественную войну Краснов Н. Ф. командовал «штрафниками» (авиаштрафбатом). И маленькая, но подробность — в 1936 году механический завод № 49 в числе своей продукции «изготавливал воздушные винты новой конструкции». Кстати, один из старожилов Бердянска так и назвал этот завод — «Пропеллерный».
Вспомните, у А. Г. Гуськова в мемуарах «Под грифом правды. Исповедь военного контрразведчика. Люди. Факты. Спецоперации» пишет: «…Тогда в Бердянске, помимо этого, строили моторостроительный завод». Казалось бы, все ясно, но это уже про 1937 год — почему «строили»?! Или достраивали вторую, а то и третью очередь?
Константин ЗАВЬЯЛОВ



















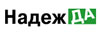







Комментарии:
| 27.11 2014 в 18:33