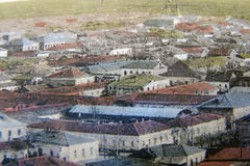
История Бердянского тюремного замка начинается с ХІХ века, когда интенсивно осваивались земли Южной Украины. Тысячи переселенцев — беглых крестьян, купцов, колонистов, устремившись в Таврию, строили новые города, села, развивая хозяйство края.
В Таврическую губернию, в том числе, входили города, нынешней Запорожской области — Бердянск, Мелитополь, Орехов. Указанные города были центрами уездов — административно-территориальных единиц в составе губернии. Поэтому в связи с ростом населения возникла необходимость строительства тюремных замков и присутственных мест для исполнения функций государства. Присутственными местами в ХІХ веке называли государственные правительственные учреждения, например, такие как суд, полиция, гауптвахта. Под названием тюремный замок подразумевалась капитальная тюрьма с разными отделениями: мужским, женским, этапные отделения для пересыльных каторжан, помещения для несовершеннолетних преступников, больных и прочие.
Строительство тюремных замков
С начала ХІХ века правительство императора Александра І под влиянием европейцев начало проводить унификацию тюремных помещений для создания более гуманных условий для арестантов. Строительство тюремных замков и присутственных мест требовало больших денежных вложений, и правительство решило привлечь для этих целей частный капитал. Губернская строительная комиссия назначала торги, объявления о них печатались в крупных газетах, таких как «Одесские ведомости» или в Санкт-Петербургских «Ведомостях», в современном понимании назначался тендер. Смета на строительство тюремного замка в Бердянске составляла 48 541 руб. 71 коп. Подрядчиком строительства тюрем и присутственных мест в Таврической губернии стал купец первой гильдии из Одессы Гранов Кива Яковлевич (для всех понятно как он «выиграл тендер»), который обязался построить тюремный замок в Бердянске на 75 человек за вышеуказанную сумму. Поскольку, в соответствии с законом от 20 апреля 1843 года «О постройке частными лицами зданий для присутственных мест и тюрем», ст.16765 «Полного собрания законов» разрешалось выдавать частным лицам ссуды под залог имущества, то купец Гранов в различных городах Таврической губернии брал ссуды. В Бердянске в 1860 году он взял ссуду на 10 тысяч рублей, предоставив залоговое свидетельство на дом вдовы Бирнбаум со страховым полисом, оцененным на ту же сумму. По контракту, заключенному с губернской комиссией 23 сентября 1859 года, Гранов обязался окончить строительство в 1861 году. Но, как это часто бывает, купец оказался мошенником и был предан военному суду в Киеве за злоупотребления при поставках продовольствия и других товаров в Крымскую войну. Налицо традиционная картина: крепостные солдаты и казаки погибали за империю, обороняли Севастополь, а мошенники вместе с царскими чиновниками на войне наживались.
Министр внутренних дел в письме Таврическому губернатору указал о несостоятельности подрядчика строительства тюремных замков по Таврической губернии, мошенничестве Кивы Гранова (брал ссуды и у других купцов), казенный долг которого составил 11 000 рублей, продаже его имущества на возмещение убытков, согласно резолюции Таврического губернского правления от 29 ноября 1883 года: «...Взыскания имущества Гранова числящихся на него долгов недостроенных тюремных зданий». Правительство достроило за его счет лишь Симферопольскую тюрьму.
Аренда и покупка помещений для тюрьмы
До строительства тюремных замков в городах Таврической губернии властями использовалась аренда помещений для содержания арестантов. В Бердянске помещение тюрьмы расположилось в домовладениях Славской и Соколовского (современное месторасположение нам неизвестно). В донесении Таврического губернатора (октябрь 1883 г.) говорилось: «Помещение, занимаемое острогом (старое название тюрьмы. — Авт.) столь ветхо, что никакая охрана не в состоянии устранить побег… С 22 на 23 бежало 4 арестанта через пролом… В связи с этим разрешаю увеличить караул на 1 пост до перевода тюрьмы в другое место».
В таком же донесении в главное тюремное управление Таврического губернатора от 17 апреля 1885 года указано: «У арестантов в тюремном помещении Славской не было бани, водили 2 раза в месяц в торговые бани. Арестантов 90 человек». Поскольку вопрос строительства тюремного замка в Бердянске не был решен, а денег на его строительство не было, Таврическое губернское правление решает «нанять более удобные и прочные помещения на продолжительное время... с условием, что владелец не имеет права изъявлять каких либо претензий на досрочный вывод».
Среди построек города Бердянский тюремный комитет остановил свой выбор на помещениях итальянского подданного Николая Дерио.
Резолюция Таврического губернского правления гласила: «Предварительные условия о найме у итальянского подданного Николая Дерио на Садовой (современная улица Свободы) в 9 квартале, заключается в следующих постройках: одноэтажный дом с особым коридором, каменный флигель, двухэтажный амбар с фасадом на улицу, одноэтажный амбар с отделениями».
Дерио обязался перестроить здание и отдать на 12 лет в аренду, считая от 15 сентября 1883 года с оплатою 4 500 рублей в год.
Был и другой претендент на сдачу в наем дома под тюрьму — австрийский подданный купец Драшкович, который предлагал свое имение далее центра на Воронцовской (современная улица Коммунаров), но ему было отказано. Также предлагали свои услуги домовладельцы Славская и Соколовский, которые сдавали помещения под «старой тюрьмой».
Учитывая, что аренда помещений под тюремный замок выходила государству в «круглую сумму», то было решено приобрести весь комплекс помещений с дальнейшей перестройкой. Главное тюремное управление МВД в декабре 1883 г. уведомляло Таврического губернатора: «Считаю долгом просить... к содействию по приобретению дома у Дерио за 25 тысяч рублей». Николай Дерио соглашается на указанную сумму и дает подписку-обязательство о продаже дома.
В 1884 г. в Таганрогском нотариальном архиве заверен договор между начальником города и порта П.П.Шмидтом (отец руководителя Севастопольского восстания матросов в 1905 году Петра Шмидта. — Авт.) и итальянским подданным Николаем Дерио о продаже принадлежащих ему помещений на улице Садовой в городе Бердянске под тюремный замок.
В реконструированном помещении «новой тюрьмы» имелись баня, больница, мастерская, контора, квартира смотрителя (начальника тюрьмы) и прочее. В донесении губернатора в Главное тюремное управление от 16 ноября 1885 года было сказано, что тюремный замок готов к эксплуатации.
Таким образом, в самом центре города появился новый тюремный замок, соответствующий всем правилам и условиям содержания арестантов. Весь комплекс зданий и хозяйственных построек тюремного замка занимал целый квартал по современной улице Свободы от рынка по левой стороне в сторону Пролетарского проспекта до БУМИБа (Бердянского университета менеджмента и бизнеса) с его прекрасным розарием и садом.
Благоустройство и быт тюрьмы
С 1885 года тюремный замок в Бердянске благоустраивался, но всегда возникал вопрос финансирования, особенно «за чей счет», т.е. государственный или местного самоуправления? Из городского бюджета финансировалось освещение тюрьмы, снабжение ее фонарями и лампами. В 1898 году начальник Бердянского тюремного замка Дубский докладывал губернатору об устройстве асфальтового тротуара в введенном ему учреждении.
Для удовлетворения духовных потребностей арестантов 15 февраля 1892 года с благословления епископа Таврического и Симферопольского в Бердянском тюремном замке освящена церковь во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского. Помещение церкви было устроено в бывшей мастерской, рассчитано на 200 человек.
Для ремонта помещений тюрьмы и вывоза нечистот использовался подряд частных лиц — вывоз золы, вставка стекол, очистка печи. Так, в пояснительной записке в Таврическое губернское правление, в строительное отделение показаны расходы на вывоз нечистот, поскольку централизованной канализации в то время не существовало: «в последние три года израсходовано 354 руб…» А вот такие услуги, как стирка белья, производились исключительно женщинами-арестантками, это мы наблюдаем по рапорту начальника тюремного замка от 30 июня 1901 года, который просит правление об устройстве калитки для сообщения с женским двором: «относить мокрое белье, в особенности в зимнее время, является крайне неудобным и замедляет работу».
Попечительское о тюрьмах общество
По мере физического и морального износа помещений тюрьмы к началу ХХ века администрация начинает переписку с губернским правлением и главным тюремным управлением о строительстве нового двухэтажного здания — флигеля. Правительственные структуры были против, аргументируя, это тем, что среднегодовая наполненность Бердянской тюрьмы не превышает лимиты. Но в защиту улучшения условий содержания заключенных стал попечительный о тюрьмах комитет (Бердянское отделение). Попечительские о тюрьмах комитеты были созданы в России так же под влиянием европейцев в начале ХІХ века. На них были возложены следующие задачи: организация здравоохранения в тюрьмах, организация духовного окормления, распределение гуманитарной помощи, организация материально-вещевого снабжения, организация школ и т.д. По сути дела, эти общественно-государственные структуры взяли на себя значительную часть функций тюремной администрации. Попечительские о тюрьмах общества имели две автономных структуры: дамский и мужской тюремные комитеты. Согласно утвержденному правительством уставу Общества в состав уездных отделений по должностям входили: уездный предводитель дворянства, уездный врач, благочинный церквей, председатель уездной земской управы, урядник и другие.
Благодаря Бердянскому попечительскому комитету (дамскому и мужскому) улучшались условия содержания осужденных, для них строились новые помещения, устраивались благотворительные концерты со сбором средств. С 1886 года был директором, а с 1906 года — председателем Бердянского тюремного комитета, был городской голова В.Э. Гаевский, он же был уездным предводителем дворянства. Усилиями вышеуказанного комитета в начале марта 1903 года новый тюремный флигель был построен (в центре фотографии, БД №9).
Состояние тюремного замка в начале 20 века
По мере «накала» политической борьбы во всей империи, а Бердянск не был исключением, росло количество политических осужденных, которые согласно правилам должны содержатся отдельно от уголовных. В 1909 году губернатор направляет губернского архитектора Беккера для переустройства Бердянской тюрьмы, устройства в ней внутренних отхожих мест и лазаретов при больнице, а также отдельного двора для политзаключенных. Стоимость реконструкции — 3137 рублей 93 копейки. Однако ремонт тюрьмы был отложен по привычной для нас причине — в связи с отсутствием средств до 1910 года. Даже не в самые кризисные для империи годы, для таких учреждений катастрофически не хватало средств на содержание арестантов, о чем докладывает Бердянское тюремное отделение в Таврическое губернское правление 5 октября 1909 года: «состояние тюрьмы самое печальное: арестанты босы, голы, заедаемы паразитами…Печь совершенно разрушается, штукатурка обваливается, черепица на крыше поползла. Тюремное отделение не получает ассигнование на продовольствие арестантов, директор отделения (Гаевский В.Э. — Авт.) содержит тюрьму за свой личный счет... на ремонт необходимо ассигновать 800 рублей, на очистку нечистот 300 рублей, на продовольствие до 1200 рублей».
В 1905 году в Бердянске была построена электростанция, в 1907 году бердянцы получили электрическое освещение. Преимущество новых достижений в технике было так же использовано для оснащения в 1909 году Бердянского тюремного замка электрической сигнализацией.
Выделяемые суммы на ремонт зданий, видимо, не всегда доходили по назначению, это мы наблюдаем по указанию губернского архитектора 1 июля 1910 года в Бердянское полицейское управление: «Строительное отделение приписывает городскому полицейскому управлению донести ему в самом непродолжительном времени, оправдан ли надлежащими документами аванс в сумме 200 рублей, выданный Полицейским управлением начальнику местной тюрьмы Семенову по ассигновке от 11 января сего года за №4555, на ремонт тюрьмы».
По всей видимости, из-за неудовлетворительного руководства и в современном понимании расходования бюджетных средств начальник Бердянского тюремного замка Семенов был снят с должности в июле 1910 года. Новый начальник — Иван Матвеевич Верниковский рапортом от 14 июля 1910 года в Таврическое губернское правление докладывал: «Принятая мною тюрьма находится в жалком состоянии, не говоря о достаточности сил, которыми я располагаю по охране таковой (всего 14 надзирателей) …многие камеры и тюремные ворота не имеют замков, церковь и контора не имеют замков… во многих камерах не имеется не только стекол, но и самих оконных рам», ходатайствуя об авансе — 75 рублей. Новый начальник буквально «завалил» губернское правление просьбами о финансовой помощи. Кроме ремонтных работ необходимо было оплачивать за воду для мойки белья и полов, приобретать метлы, швабры, дезинфицирующие средства.
Контингент тюремных замков
В Таврических тюремных замках отбывали наказание представители многих преступных профессий: «маравихеры» — карманники, «мокрушники» — убийцы, «блиноделы» — фальшивомонетчики, «фармазоны» — продавцы стекляшек под видом бриллиантов, «барыги»— скупщики краденного, «огольцы» — дачные воры, «от сохи на время» — невинно осужденные, «шпана» и «кувыркалы» — мелкие преступники недостойные внимания. Выделялись рецидивисты — авторитеты, так называемые «Иваны». А в начале и середине ХІХ века кроме общеуголовного элемента тюремные замки населяли сторонники различных ересей, например, члены сект «кастратов», «прыгунов» и прочих. На составе арестантов так же обозначился полиэтнический характер колонизации края. Так менониты (протестантская секта, названная по имени ее основателя Менно Сименса, переселились в наш регион с Пруссии) чаще попадали в тюрьмы за нанесение телесных повреждений, невозвращения долгов, самовольный переход в другие колонии. Переселенцы из южных земель Германии — за побеги с колоний, проявление «нерядения и лености в хозяйстве», неподчинение начальству. Болгары, кроме побегов, были замечены в драках, грабежах и даже в колдовстве. Как писал историк-краевед Павел Кравчук: «Места заключения южного края стали для многих переселенцев своеобразной школой лояльности к новой родине. Таврические тюрьмы видели арестантов разных сословий, национальностей и вероисповеданий».
С 1869 года всех осужденных на каторгу отправляли на Сахалин. Царское правительство хотело сделать единое место отбывания наказания, наподобие британской Австралии или французской Новой Каледонии. Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась «сплавом». На каждый год приходилось два «сплава»: весенний — для преступников-мужчин, осенний — для преступниц-женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям Добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе… Наверное, тогда и возникла эта песня:
Прощай, моя Одесса,
Веселый карантин.
Мы завтра уплываем
На остров Сахалин…
Осужденных пересыльных тюрем сначала этапировали в Одессу, а затем на кораблях — через Индийский океан, в течение нескольких месяцев доставляли на далекий Тихоокеанский остров. О нравах и быте сахалинских арестантов писал А.П.Чехов в своих путевых заметках под названием «Остров Сахалин».
Среди известных людей, которые отбывали наказание в Бердянском тюремном замке, был и городской голова К.Константинов, осужденный за оскорбление судьи на один месяц.
М.Герасименко в своей книге «Батька Махно: мемуары белогвардейца», изданной в 1928 году, указывает, что легендарный Н.И.Махно в начале 1906 года ограбил с тройным убийством Бердянское уездное казначейство. Один из участников преступления выдал его. До суда Н.Махно содержался в Бердянской тюрьме, откуда попал на каторгу. Но историки пока не подтверждают этих сведений.
Политзаключенные Бердянской тюрьмы
Ценные для нас воспоминания о своем пребывании в Бердянской тюрьме оставил бухгалтер экспортной конторы «Луи Дрейфус и К» Рафаил Кабо (1886-1957 гг.), который был одним из руководителей социал-демократической организации (меньшевиков) в городе Бердянске. В конце 1903 года за агитацию среди рабочих бердянских заводов Р.Кабо был арестован и в течении 10 месяцев находился в Бердянской городской тюрьме. После освобождения Р.Кабо продолжает революционную деятельность на юге России. В 1907 году Р.Кабо вновь арестован в Твери и отправлен отбывать срок в Бердянский тюремный замок. После революции Р.Кабо стал профессором, создателем социально — культурной географии.
В своих воспоминаниях он писал: «По старинному обычаю перед пасхой добрые люди приносили в тюрьму для заключенных дары: куличи, пасхи, крашеные яйца, колбасы. Все это в присутствии тюремного старосты распределялось между заключенными. Так как тюрьма была небольшая, а добрых людей в городе было много, то на долю каждого приходилось значительное количество всякого добра. К вечеру моя койка была завалена вкусными вещами…» Политические заключенные, к которым и относился Р.Кабо, объявляли голодовки, обструкции, выдвигая требования: встречи с прокурором, права переписки, книг, перевода с одиночных камер в общие камеры, прогулок и т.д.: «К вечеру нам объявили, что те требования «которые не противоречат закону» удовлетворены, обструкция закончилась нашей победой…»
Условия содержания в тюрьме не способствовали «оздоровлению»: «В начале декабря 1904 года меня (Р.Кабо) выпустили из Бердянской тюрьмы после 10 месячного заключения под надзор полиции до окончательного решения моего дела…Тюрьма повлияла на мое здоровье, и поэтому достаточно было первой простуды, чтобы я заболел плевритом».
На фото — группа политических заключенных Бердянского тюремного замка, относящихся к различным партиям социалистического направления. Они «расшатывали» империю, некоторые из них действительно верили в «светлое будущее», демократическое правление, социальные реформы, гражданское общество после свержения самодержавия.
Но после Гражданской войны оказалось все наоборот. Прошли судебные процессы над активными участниками свержения самодержавия: меньшевиками (социал-демократами), эсерами (социалистами-революционерами), анархистами. Многие из вышеуказанных партий примкнули к победителям — партии большевиков-коммунистов, став советскими чиновниками. Но впоследствии, в результате различных «чисток» были в лучшем случае лишены работы, а в 1937 году за «членство» их расстреливали и отправляли в концлагеря. Хотелось бы отметить, что политзаключенные до революции пользовались различными привилегиями, они не работали, отношение к ним было более лояльное, чем к уголовным заключенным, достаточно прочитать о пребывание в тюрьмах и ссылках руководителей большевиков В.Ленина, Л.Троцкого и прочих.
Но захватив власть большевики-коммунисты устроили для своих политических оппонентов настоящий ад и статус политзаключенного, так называемого «контрреволюционера» усугублял его положение. Привилегии получали социально-близкие к правящей партии уголовники. Бердянец Р.Кабо (на фото стоит первый слева в третьем ряду) так же отказался от политической деятельности и «ударился в науку», но это его не спасло в дальнейшем от политических репрессий.
Положение тюрем и в период правления Временного правительства
После отречения российского императора Николая 2 было сформировано Временное правительство, министром юстиции был назначен А.Ф.Керенский. Александр Федорович очень любил говорить речи и рассылать циркуляры, которые негативно отображались на всей системе правосудия и государственного управления. Подписанные циркуляры, то ли от полного не знания жизни, то ли от «революционного зуда», новоиспеченным министром вносили весомый вклад в развал государства.
Содержание их сводилось к следующему: «те из заключенных в тюрьмах, которые изъявят желание искупить свой грех и заслужить прощение на полях брани, немедленно подлежать передаче подлежащему воинскому начальнику для направления таковых в войска». Как только этот циркуляр стал известен в тюрьмах, почти все арестанты изъявили желание «пролить кровь за революцию». Само собой, попав на свободу они занялись своим «делом». Когда были освобождены мужчины, женщины-арестантки заявили протест. Они так же хотели «искупить свой грех». По этому поводу был запрос в Министерство юстиции, которое разъяснило, что действие указанного циркуляра распространяется и на женщин, причем последние подлежат к зачислению к сестрам милосердия. Можно легко себе представить, какой ценный материал представляли для армии «сестры» — уголовницы Керенского.
По главному тюремному управлению приходили циркуляры, лишающие права надевать на буйных арестантов, отказывающихся исполнять тюремные правила, кандалы и заключать их в виде наказания в карцер, из тех соображений, что эти «меры лишь озлобляют, а не исправляют», почему во всех этих случаях рекомендовалось прибегать лишь к уговорам и аппеляции к совести совершивших проступок. В результате этих циркуляров, арестанты, главный контингент которых составлял из быстро возвратившихся в тюрьму «добровольцев», желавших «искупить свой грех» и глотнувших на свободе «революционного воздуха», отказались совершенно повиноваться тюремной власти, очевидно потому, что не все начальники тюрем и тюремные надзиратели были одарены ораторскими дарованиями и не могли убедить бесчинствующих и вызвать пламенными речами слезы раскаяния. Один из чиновников, заместитель прокурора Н.Плешко, по обязанностям службы посещавший тюрьмы вспоминал: «В тюрьме делалось, что-то невообразимое: страж-привратник не был вооружен, арестантские камеры не запирались, и арестанты свободно расхаживали друг к другу в гости, и при желании, легко, конечно могли сговариваться, как давать показания у следователя и на суде; арестанты сидели на окнах и вели разговоры с прохожими, завели сапожные и перочинные ножи, играли открыто в карты и т.п. Когда я выразил начальнику тюрьмы свое возмущение по поводу существующих у него в тюрьме порядков, он ответил, что «такова воля арестантов», заявляющих, что всякие стеснительные меры «унижают их достоинство». «Да это ничего, — прибавил он в виде утешения, — вот в женской тюрьме арестанты на днях праздновали свадьбу со спиртными напитками».
Не менее двух раз в месяц я должен по закону посещать тюрьму, но посещал я ее гораздо чаще. Я приходил в тюрьму, заходил в камеры вместе с начальником тюрьмы и одним из тюремных надзирателей, быстро, кое-как, насколько позволяла обстановка, опрашивал арестантов, которые держались со мною с глазу на глаз относительно спокойно, а как только я двигался к двери и скрывался за ней в коридор, вслед мне неслись из камер невероятные крики, стук и площадная брань. Та же картина повторялась и в следующей камере, и, когда я, произведя осмотр, выходил из тюрьмы, вся тюрьма гудела, стонала и положительно тонула в море матерной брани… Прошло немного времени, в тюрьме произошел бунт. Арестанты требовали открытия камер, ворвались в контору тюрьмы, вооружились хранящимися там винтовками, и, убив двух надзирателей, бежали, в количестве 12 человек.
Узнав о случившемся, я дал знать милиции (с февраля 1917 года полиция была упразднена, новая правоохранительная структура стала называться милицией. — Авт.) и вслед за тем немедленно же явился в тюрьму. Там я застал начальника милиции и уездного комиссара (представитель Временного правительства на местах. — Авт.). Последний стоял в одной из камер и, называя арестантов «товарищами», укорял их, призывая к «революционной совести». Арестанты его не слушали, хохотали и ругали со всей силою арестантского жаргона…».
Благодаря «птенцам Керенского» (так называли уголовников, освобожденным из тюрем. — Авт.) по всей стране начался безудержный разгул грабежей, убийств, налетов на квартиры. Обыватель остался один на один с преступным миром и пришлось создавать комитеты домовой обороны.
Беспорядок в государственном управлении, разгон полиции, увольнение профессиональных юристов из суда, беспорядки в тюрьмах, армии — результат двоевластия в стране и непрофессиональных действий временного правительства, которое впоследствии возглавит А.Ф.Керенский. Немудрено, что самая экстремистская партия большевиков — коммунистов так легко захватила власть, развязав Гражданскую войну.
Тюрьма в период Гражданской войны и ее окончания
В годы Гражданской войны Бердянский тюремный замок использовался в основном для подавления своих политических соперников противоборствующими сторонами. А вот «судьбу» Бердянского тюремного замка окончательно «решил» в октябре 1919 года легендарный Нестор Иванович Махно. Сначала махновцы выпустили с Бердянской тюрьмы всех заключенных, в том числе и уголовных, что негативно отразилось на криминогенной обстановке города. Анархист В.Волин вспоминал: «В Бердянске на глазах огромной толпы людей была подорвана тюрьма, и население так же брало участие в ее разрушении». Командой подрывников командовал Алексей Чубенко. Подрывали тюрьмы специальным способом, чтобы не разрушать много кирпича, для дальнейшего его использования в хозяйстве. Тюремный кирпич отдавали бесплатно всем желающим. Этим достигался пропагандистский эффект участия населения в разрушении тюрьмы.
Махновцы разрушали тюремные замки, согласно анархистской доктрины. Декларация революционной повстанческой армии Украины (махновской) заявляла: «Правосудие должно представлять собой живой, творческий акт общества и справедливости… Поэтому никакие омертвелые формы правосудия — судебные учреждения, революционные трибуналы, полицейские или милицейские структуры, чрезвычайки, тюрьмы и все другое старое бесплодное и ненужное тряпье — все это должно отпасть само собой и исчезнуть при первом вздохе свободной жизни, при первых шагах свободной и живой общественно-хозяйственной организации». На принятие решений по разрушению тюрем накладывалась личная позиция Нестора Махно. Ликвидация тюрем совсем не означала начала эры безнаказанности для преступников, просто в системе правовых норм махновцев лишение свободы считалось недостойным человека наказанием. Грабителей и бандитов теперь просто ждала смертная казнь, к тому же достаточно быстрая.
После окончательного установления коммунистической диктатуры на Запорожской земле, в Бердянске была образована новая тюрьма, которая располагалась под «горой» начиная от центрального «Ощадбанка» по проспекту Ленина в сторону бывшего Первомайского завода. Но поскольку слова «тюрьма» и «каторга» были «старорежимными», то тюрьмы советской Украины стали называть ДОПРами (домами общественно-принудительных работ, название просуществовало до 1929 года). В Бердянске ДОПР №4 просуществовал до 1925 года и в связи с переходом города по административной реформе в Мариупольский округ был ликвидирован, а бердянцев, в дальнейшем «перевопитывали» в Мариупольском ДОПРе.
Владимир КАРПЕНКО



















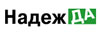







Комментарии:
нет комментариев