Экономисты и политологи традиционно интересовались сухими объективными, измеримыми показателями социального самочувствия – уровнем доходов граждан, уровнем неравенства. Но национальное развитие зависит и от таких субъективных параметров, как эмоциональный фон в обществе.
Наиболее популярная эмоция, пожалуй, счастье: исследователи публикуют все больше работ, посвященных измерению уровня «национального счастья». Правительство Великобритании, например, предложило регулярно оценивать уровень счастья в стране и пользоваться им как универсальным показателем благосостояния, более адекватно отражающим успешность, чем сухие экономические индексы.
Дэниел Трейсман, экономист из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, обращается в своем новом исследовании к противоположной части эмоционального спектра: работа посвящена изучению страха. Специальных исследований он не проводил, а воспользовался данными полудюжины опросов, проводившихся в первой половине 2000-х в разных странах мира. Широта географического охвата у этих опросов была разной, некоторые проводились по всем континентам, в том числе и в России. Однако зоной максимального взаимного перекрытия всех опросов оказалась Западная и Центральная Европа. В ходе этих опросов респондентов спрашивали о том, боятся ли они тех или иных возможных напастей, и если да, то насколько сильно: третьей мировой войны и ожирения, эпидемии свиного гриппа и безработицы, генетически модифицированных продуктов и преступности и т.д. Трейсман в своей работе сводит все эти разрозненные индикаторы страха, или «пугливости», воедино, пытаясь выяснить, чем определяется их интенсивность.
Разумеется, склонность к паническим настроениям зависит от индивидуальных характеристик отдельных респондентов, которые учитывались в опросах. Из их результатов мы можем узнать, что у европейских женщин страхов больше, чем у мужчин; у пожилых респондентов – чем у молодых; у женатых или разведенных – чем у не имеющих опыта семейной жизни; у безработных и малообразованных – чем у имеющих работу и более высокое образование. Наконец, респонденты, интервьюируемые вечером, менее склонны бояться будущего, чем опрашиваемые утром, – Трейсман предполагает, что это объясняется склонностью многих граждан принимать ближе к вечеру определенные субстанции, придающие потребителям, как мы знаем, немного дополнительной храбрости.
Склонность волноваться о возможности ядерного конфликта очень сильно коррелирует со склонностью беспокоиться о будущем своей семьи и собственном здоровье. Боязнь набрать лишний вес коррелирует, пусть и не так сильно, с боязнью терроризма, организованной преступности, глобального потепления и перспектив потери работы. В итоге жители некоторых стран демонстрируют более высокую склонность опасаться разнообразных событий: европейскими чемпионами здесь оказались греки, следом за ними следуют испанцы и португальцы, а также итальянцы.
Высок уровень страхов и в Центральной Европе – с одним важным исключением: жители этого региона меньше боятся избыточного веса. Наоборот, меньше всего волнуются из-за гипотетических будущих напастей, как правило, жители Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции.
За пределами Европы больше всего опасений свиной грипп вызвал в России и Индонезии, совершенно им не затронутых. Говоря иначе, реальные события влияют на восприятие опасностей, но не определяют его.
В итоге Трейсман приходит к выводу, что самый значимый фактор, определяющий уровень страха в обществе, – это религиозные представления, а именно склонность верить в ад и рай: представления эти объясняют от 20 до 45% различий в уровне страха между отдельными странами. Фактор религии настолько значим, что при введении поправки на него даже уровень экономического благосостояния перестает существенно влиять на показатели «запуганности».
И здесь оказывается, что православные страны имеют самые высокие показатели страха, за ними следуют католические, а ниже всего этот показатель в странах с преобладанием протестантов.
Возможно, более существенно для нас другое наблюдение Трейсмана: уровень страха в обществе коррелирует с уровнем недоверия и к государственным институтам, и к согражданам. Важность же доверия между гражданами для успешного развития общества хорошо доказана. Между тем в России, по всем имеющимся опросам, уровень страха в обществе – один из самых высоких на континенте.
А чего боитесь Вы?
Директор арт-студии «Пани Ирина» Ирина Архипова:
– Самое страшное – потерять близких. Из более приземленных страхов – боюсь змей. Экономических трудностей не опасаюсь: я жила в разных условиях, к которым приспосабливалась. Главное, я умею работать!
Запорожский исполнитель, заслуженный работник культуры Украины Анатолий Сердюк:
– Если личное – хочется быть здоровым. Если в профессиональной деятельности – хочется добиться творческой реализации. Боюсь быть невостребованным. Опасаюсь того, чтобы в Украине не исчезли украинский язык и украинская песня – я ими живу, это моя работа.
Председатель общественной организации «Союз защиты вкладчиков, потребителей банковских услуг» Нелли Босиева:
– Я боюсь нестабильности. В нынешнем году в связи с постоянными подорожаниями коммунальных услуг впервые задумалась над тем, смогу ли я оплачивать квартиру. Смогу ли я помочь друзьям, родственникам?
Священник храма Покровы Пресвятой Богородицы и Святой равноапостольной Нины отец Максим:
– Люди опасаются экономических сложностей, например, введения электронных паспортов, как это происходит в России. Это как пример подготовки почвы к будущей мировой глобализации, единому правительству. Сейчас во всем мире происходят революции, народ опасается наступления третьей мировой войны – за ресурсы, нефть, воду, газ.



















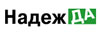






 Название издания Всеукраинская об- щественно-полити - ческая газета "
Название издания Всеукраинская об- щественно-полити - ческая газета "
Комментарии:
нет комментариев