
А если зуд – без дела не страдайте, –
У вас еще достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьев.
Владимир Высоцкий
Два менталитета в сравнении
Сегодня весьма обсуждаемым является китайское экономическое чудо, причины которого кроются в конфуцианстве, где смысл сводится к оправданию социального неравенства, безропотному рабскому труду и отсутствию мотивации у работающего, также отрицанию обогащения и возвышения людей незнатных. То есть по учению Конфуция, «если ты родился баобабом, то будешь баобабом тыщу лет». Китай сам не заметил, как благодаря этому учению превратился в экономически мощное образование. Потому что конфуцианство – это, прежде всего, безупречная трудовая культура, возникшая много веков назад, когда крестьянская семья в одиночку не могла справиться с обработкой собственного поля. В Китае издавна культивировалось рисовое земледелие, и чтобы обеспечить урожай, требовалась ирригационная система, водохранилище. Воду спустить, рисовую рассаду высадить, полить. Это труд большого коллектива – владельцев огромной системы полей. Он требовал слаженности и организованности.
У нас бывает, что кто-то облеченный властью выстраивает своих подчиненных «во фрунт», разными санкциями понуждает к слепому подчинению, но это ему или частично, или вообще не удается. Что вполне справедливо. Потому что нашему менталитету чужд конфуцианский стереотип подчинения, так как европеец устроен таким образом, что как только понимает что баобаб, он им перестает быть. Отсюда и вытекают перевороты, волнения, свержения, смены формаций. Истоки такой разницы можно отыскать так же земледельческой культуре, но европейской...
Крестьянская европейская семья от китайской отличалась, прежде всего, независимостью. Она не нуждалась в объединении с другими семьями для высадки, полива и обработки своего надела. Крестьянский труд был тяжелым, в страду – авральным, но после можно было расслабиться. В отличие от сгорбленного в три погибели китайца за высадкой риса, наш крестьянин шел по полю, доставал из лукошка зерно и, как живописали европейские художники, разбрасывал его широким жестом. Семья в одиночку могла справиться со своим хозяйством. Поэтому у нас и не было Конфуция с его идеологией организованного труда. По этой же причине мы не можем, безропотно трудясь, повиноваться высшим структурам, в отличие от послушных тирании китайцев. У нас и у них также разное отношение к государству. По Конфуцию, все рождены для работы на благо императору, у китайцев даже боги ему подчинены (чего не наблюдается ни в одной религии), мы же воспринимаем государство как паразита – с его налогами, ценами, и грабителя: вспомните, за что князя Олега древляне истребили…
У китайцев непонятная нам идеализация чиновника. Там даже если он и глупость говорит, все равно делают так, как сказало государственное лицо. А глупостей из-за начальства на счету истории Китая немало. Самые показательные – времен Мао Цзэдуна. Это он в новейшей истории первым взял на вооружение конфуцианское учение о рабском труде. В условиях отсутствия природных ресурсов и образованных людей ставка была сделана на рабочую силу. Тогда в Китае благодаря изобилию «дурных рук» были уничтожены воробьи. Огромное количество людей бегало по стране, пугая бедных птиц тряпками, шестами, тазами... После уничтожения популяции воробьев этих пташек завозили из Советского Союза и Канады. Ручным трудом избыточного населения также пытались увеличить выплавку стали. Во дворах строились литейные печи, где крестьян заставляли переплавлять их инвентарь в бесполезные низкосортные болванки.
Может, и без умысла, но конфуцианством воспользовались более передовые державы, и после провала «большого скачка» Китай завалили инвестиции, и туда со всего мира побежал капитал. Запад понял, что при высокой дисциплине труда и неприхотливости китайцев он легко может получить высокие экономические дивиденды, что уже чудо, но не для простых китайцев, потому что им оно ничего не дает. Ну, разве занимающим высокие должности, а таких максимум десять миллионов, в процентном отношении к остальному населению – ничтожное количество. Эта категория лиц подобна сотрудникам Рады или «Нафтогаза». Там и уборщицы «в шоколаде». А остальные работают круглый год без выходных и отпуска, без соцстраховки. Это если повезет с работой. А в основном длиннющие очереди за трудоустройством по двухнедельному контракту, потому что еще 99 человек претендует на это место и им тоже следует дать возможность поработать.
Подобные условия жесточайшей конкуренции на рынке труда вряд ли нам придется испытать, потому что нас значительно меньше полутора миллиардов. Мы не позволяем себя продать за бесценок, мы пишем резюме, где обозначаем минимум и максимум желаемой зарплаты. В Китае же хорошим считается место в офисе, где зарплата 100–150$. У нас, может, кого-то такие деньги и устраивают, но только для того, чтобы прийти заварить кофе, почитать газетку, поболтать с сослуживцами и уйти домой, но вкалывать за такие деньги – отнюдь.
В Китае же все жестко. За яблоко, съеденное не в обеденный перерыв, за рассказанный смешной анекдот, за взгляд в окно – наказание одно: увольнение. Проблем с соискателем не будет.
Хоть китайская экономика и уступает лишь экономике США, однако территориальные размеры и людские ресурсы Китая несопоставимы ни с одной страной мира, кроме Индии. Поэтому не тот дом богат, где много людей и денег, а тот, где много денег на каждого из живущих там.
Так что не стоит сверх меры властным начальникам применять китайскую практику управления: она не для нашего малочисленного ресурса. К тому же, оно и лучше – а вдруг подчиненные своими разумными доводами от истребления воробьев, некачественной плавки и других глупых прожектов оградят.
Есть в культурных традициях «желтолицего брата» еще одна фишка, на которой умные и энергичные успешно зарабатывают на протяжении двух десятков лет. В этом случае деньги делаются на сомнительном толковании фэн-шуя.
Экзотический плод
Интерес к китайской культуре у нас возник благодаря публикациям востоковеда Блаватской и фильмам с участием Брюса Ли, нестабильностью жизни, а может, и всеобщим поглупением. Запад не такой хитрый как Восток, но гораздо прагматичней, поэтому этот интерес в начале 90-х был поставлен на коммерческую основу в виде популяризации «шаолиньского ушу», «шаолиньского кунфу», издания книг и разного рода тренингов по фэн-шую, и пришли к нам эти ненаучные «штудии» совсем не из Поднебесной, а из Европы. Если пропаганде низкопробных имитаций боевых искусств вне пределов Китая был положен конец (в 2007г. благодаря требованиям властей города Дэнфэн, где расположен монастырь Шаолинь. – Ред.), то согласно фэн-шую у нас строятся дома, кладется кафель, санузлы устанавливаются в соответствии с «семи ветрами» и т.д.
Здесь следует заметить, что тот фэн-шуй, который преподносится как учение о достижении богатства и гармонии – это совсем не то богатство и не та гармония в привычном нам понимании.
Для человека западного богатство – это количество денег, а для китайца – добротная пища. Значит, фэн-шуй это не деньги, а роскошно накрытый стол. Еда – главная ценность китайца, его больше волнует не счет в банке, а состав подаваемых блюд. Так что не обвиняйте трехлапую жабу у вашего порога за то, что деньги только на еду и уходят – это ваш выбор.
По вопросу гармонии потоков и ветров в фэн-шуе – так это из культа мертвых, имеющего в Китае огромное значение. В этой стране никогда не было традиции создавать общие кладбища. Каждый был волен хоронить умершего члена своей семьи где угодно и как угодно. Но ритуал похорон был очень важен, поскольку считалось, что от того, где лягут останки, воспримет ли их природа правильно, всецело зависит благополучие живых. Поэтому фэн-шуй предписывал, как и где следует хоронить своих близких, и никакого отношения к жилым домам не имел.
Также китайцы совершенно не испытывают священного трепета, когда дело касается выживания и питания: охотно бросают на сковородку животных, побывавших, по легенде, у самого Будды, а их шкурки пускают в производство. Вспомните дефицитные в Союзе китайские детские шубки из котов, напоминающие норковые.
Сегодняшняя природа Китая весьма далека от гармоничной. В мире нет больше места, где сложилась такая же скверная экологическая обстановка, как в Китае. Из-за колоссальных объемов выброса сернистого газа в атмосферу вследствие сжигания каменного угля – главного топлива в стране – более чем в половине китайских городов выпадают кислотные дожди, загрязняющие реки и озера.
Нынешние китайцы ничем не отличаются от своих предков, которые также не церемонились с традиционными верованиями, по которым покушение на течение водного потока – тягчайшее зло. Так вот, Мэн Тянь, архитектор Великой китайской стены, перед смертью сказал, что не смог построить ее без пересечения вен земли.
Как видим, китайский форпост до сих пор стоит. Несмотря на революции в мире, бунты, смещения режимов, он не рухнет, как и не пошатнется китайская идеология беззаветного служения государству. У них всегда будет тихо, потому что у них есть правитель с небесным мандатом, учение, отрицающее социальное равенство, «культурная интрига для белого брата» взамен на масштабный сборочный цех – о чем еще думать? Пускай думают, кому это позволено…
Наталья ЕРМАКОВА



















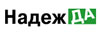






 Название издания Всеукраинская об- щественно-полити - ческая газета "
Название издания Всеукраинская об- щественно-полити - ческая газета "
Комментарии:
нет комментариев